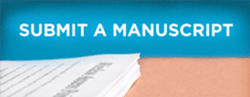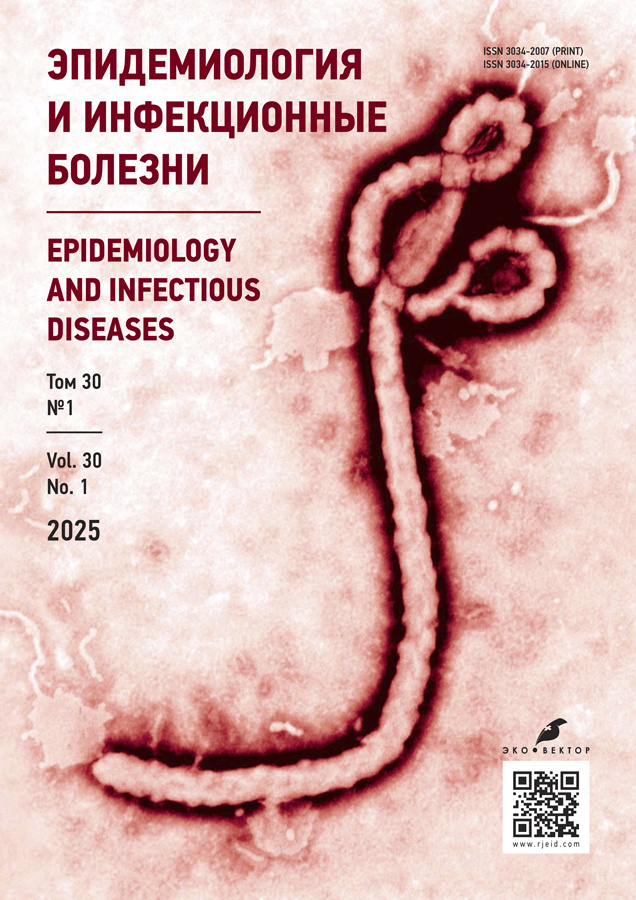History of tularemia research: from the Astrakhan Pestis Ambulans to a ubiquitous independent nosological entity
- Authors: Nikiforov V.V.1,2
-
Affiliations:
- Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
- Federal Research and Clinical Center of Specialized Medical Care and Medical Technologies
- Issue: Vol 30, No 1 (2025)
- Pages: 61-73
- Section: Historical Articles
- Submitted: 31.03.2025
- Accepted: 03.04.2025
- Published: 16.07.2025
- URL: https://rjeid.com/1560-9529/article/view/677915
- DOI: https://doi.org/10.17816/EID677915
- EDN: https://elibrary.ru/BBTQKY
- ID: 677915
Cite item
Abstract
Today, the legitimacy of tularemia as an independent nosological entity is beyond doubt, as both its causative agent and clinical manifestations are well studied. However, this diagnosis is just over 100 years old. In the late 19th century, practicing physicians began to acknowledge the existence, within the well-known disease of plague, of a more or less distinct form of it (as S.P. Botkin referred to as “plague of mild strength,” pestis ambulans, pestis nostras, peste frustre, etc.), characterized by a relatively mild course and, at the very least, low contagiousness or even a complete absence of human-to-human transmission. The causative agent of this disease was isolated only in 1911 by American researchers G.W. McCoy and C.W. Chapin (the article on this discovery was published in 1912) from California ground squirrels (gophers) during an investigation of a “plague-like disease” in these rodents near Tulare Lake. The microorganism was named Bacterium tularense after the place of its identification. The association of this pathogen with human diseases involving intoxication syndrome and lymphadenopathy was established in 1921 by American physician and researcher E. Francis, who coined the name “tularemia.” In other words, the discovery of tularemia followed the reverse path: not from clinical observation to etiology, but from the pathogen to the clinical features of the disease. In Japan, tularemia was first described in 1924–1925 by H. Ohara under the name Yatobyo (yato meaning wild rabbits and byo meaning disease); by 1925, its identity as tularemia had been confirmed. The diagnosis was first introduced and later widely accepted in the Soviet Union in 1926. Subsequently, cases of tularemia have been reported in nearly all countries (except South America), and in 1947 the pathogen was justifiably renamed to Francisella tularensis.
Full Text
История изучения туляремии достаточно увлекательна и по «закрученности» сюжета уступает разве что только сибирской язве. Обычно врачи и исследователи вели и ведут поиски возбудителя при уже вполне ясной и изученной клинической картине того или иного инфекционного заболевания. При туляремии этот порядок вещей оказался перевёрнутым с ног на голову — сначала в первой четверти ХХ века более или менее «случайно» был выделен возбудитель, а затем к нему «привязали» вызываемые им клинические проявления. Далее мы попытаемся, паки это возможно, в хронологическом порядке проследить этапы развития учения о туляремии. И в этой цепочке первым сразу возникает имя С.П. Боткина.
«…13 февраля1 мне публично перед моими слушателями пришлось исследовать больного Наума Прокофьева, представлявшего в себе полную клиническую картину чумы в лёгкой её форме. Наум Прокофьев представлял острое лихорадочное, инфекционного характера заболевание с быстрым опуханием, менее чем в сутки, лимфатических желёз в левой паховой области с переходом в нагноение и произвольным вскрытием абсцесса на 26-й день. На 28-й день болезни затихшее лихорадочное состояние повторилось и в течение одной ночи опухли правые паховые железы, представляя при этом резкую болезненность. На коже больного, при публичном его осмотре 13-го числа, найдены были мелкие петехиального характера пятна, с различной окраской; одни представлялись ярко-красными, киноварного цвета, — другие петехии, по преимуществу на руках, были окрашены синеватым цветом, — третьи, наконец, с окраской менее яркой, красновато-бурого цвета. Местами представлялись на коже следы бывших петехий, в виде небольших точек, представляющих места слущенного эпидермального слоя. Наконец, на коже живота между петехиальными пятнами представлялись три пузырька с булавочную головку, очевидно развившиеся из предшествующих петехий. Температура 39.2, во время лекции, пульс 120, дыхание 24, подмышечные железы представлялись нерезко опухшими. Хотя объяснение представленной картины болезни сифилитическим процессом не могло иметь места, тем не менее, однако, на лекции публично больной был исследуем и в этом направлении <…> такая диагностическая ошибка2 была не позволительна профессору клиники внутренних болезней, в виду представившегося острого заболевания инфекционного характера, с петехиями на коже, с вскрывшимся бубоном в левой паховой области и с острым опуханием лимфатических желёз в правом паху. — Как бы ни желательно было мне ошибиться в таком случае, но, к несчастью, не могу признать моей ошибки и глубоко проникнут истинностью моего убеждения» [1].
«…В тот же вечер3, извещённый о происшествии, градоначальник Зуров собрал совещание в составе: городского головы — барона Корфа, докторов — барона Майделя, полицейского врача Баталина, начальника академии и других. Врачебная комиссия снова детально обследовала больного и пришла к тому же заключению, что и профессор Боткин. — данный случай болезни есть действительно та чумная инфекция слабой силы, которая появляется обычно перед эпидемией чумы» [2].
«…Температура 39,5, пульс 94, напряжённый, головная боль, больной большей частью лежит, забытьё». На другой день новый бюллетень: „Температура 37,5, пульс 76, легко снимаемый, объективные явления те же, опухоль „status idem“, больной жалуется на слабость и отсутствие аппетита. Ночь провёл спокойно“» [2].
Однако признать наличие чумы в городе городской администрации не хочется.
Консилиум, собранный 14 февраля 1879 г., приходит к заключению: «Наум Прокофьев, находясь в безрецидивном периоде сифилиса, заболел 15 января идиопатическим воспалением паховых желёз, которые, перейдя в нагноение, вскрылись на 26-й день. Оставленная без хирургической помощи болезнь сопровождалась явлениями свободно выходящего гноя, то есть лихорадочными явлениями известного типа и характера и впоследствии симпатическим бубоном в правом паху, который в настоящее время находится в периоде разрешения…» [2].
«…15 февраля созывается новая „особая комиссия“ из членов медицинского совета под председательством лейб-медика профессора Зденкауэра. „Особая комиссия“ производит также осмотр больного и составляет уже новое заключение: „У Наума Прокофьева опухоли желёз объясняются предшествовавшими сифилитическими страданиями. Что же касается до острой инфекционной формы болезни, то отсутствие опухоли печени и селезёнки… не даёт права признать болезнь за имеющую какую-либо аналогию с астраханской эпидемией…“» [2].
Диагноз чумы С.П. Боткиным поставлен публично, но анализ ситуации с высоты наших сегодняшних знаний о чуме и туляремии заставляет признать, что в этом случае он поступил неоправданно поспешно и опрометчиво, не взвесив, кроме всего прочего, последствий оглашения факта такой потрясающей общественной важности, а только руководствуясь его научным интересом. «…Весьма естественно, что известие об этом в тот же день с быстротою молний разнеслось по столице и произвело страшную панику, — имя Боткина было слишком авторитетно, чтобы сомневаться в диагностике, и огромное большинство приняло её как официальное признание появления „ужасной гостьи“ в Петербурге. Но когда прошло несколько дней и состояние Наума Прокофьева вместо ожидаемого ухудшения стало постепенно улучшаться, население успокоилось, зато печать с яростью обрушилась на Боткина…» [3].
«…В газетах, печатавших 14 и 15 февраля 1879 г. короткие сообщения о случае в терапевтическом отделении, появляются сообщения об „ошибке“ профессора Боткина. <…> „Московские ведомости“ пишет: „Медицинский авторитет сначала заочно, не имея положительных данных, провозглашает плохо исследованную болезнь индийской чумой, чёрной смертью, а потом, встретив довольно обыкновенный случай сифилиса, поспешно, не слушая возражений, объявляет, что это чума, что чума, стало быть, в Петербурге… по всей России, и какие произошли бы тогда последствия? Не было ли бы тогда искусственно произведено бедствие большее, чем даже смерть нескольких сот человек? Фальшивая тревога, причинённая курьёзным и прискорбным случаем с сифилитиком Прокофьевым, которого профессор Боткин с таким невероятным легкомыслием признал за больного чумой, у себя дома, конечно, не замедлит улечься, но случай этот, как водятся, не останется без международных последствий, далеко не так скоро изживающихся. Телеграф из Берлина уже возвещает новые меры строгости против России, подготовляемые тамошним правительством“» [2].
Опять эти до боли знакомые «оглядки» на недружественную заграницу.
«…Вынужденный ответить на нападки, Сергей Петрович пишет письмо в редакцию газеты „Новое время“4. Он ещё раз подробно излагает свою точку зрения на возможность появления лёгких форм заболеваний чумного характера и на необходимость научного изучения их, своевременного обнаружения и широкой публикации сведений о чуме для предотвращения паники. Он подробно описывает симптомы болезни Наума Прокофьева, показывая, что диагноз сифилиса исключается. <…> Я бы не позволил себе защищать моё мнение публично, если бы это касалось одного моего самолюбия, и безропотно вынес бы и вынесу все возможные на меня нападки и самые недостойные инсинуации, если бы это только вело к действительному благу народонаселения» [2].
«…Под видом обозрения иностранной прессы подносилось такое сообщение: „…считают, что здесь происходит таинственная закулисная игра. По достоверным источникам из Петербурга сообщают, что там подозревают „нигилистические“ происки… что в числе ассистентов Боткина имеется двое состоявших вожаками нигилистов, что достоверно то, что между революционерами замечена невероятная дерзость… Другие сообщения Боткина представляют жертвой правительства, мучеником за свои убеждения, говорят, что это политические махинации против Боткина со стороны правительства: Боткин, мол, выразился неопределённо, но враги, т. е. полиция, постоянно окружающая его своими агентами, поспешила опубликовать, что в клинике (находится) чумной (больной), чтоб вызвать раздражение против Боткина, а затем организовала комиссию, осмелившуюся заявить, что у Прокофьева сифилис. Члены комиссии состоят на службе и потому подтвердили, Зденкауэр — враг Боткина, так как он заменил его в качестве лейб-медика, чтобы подкопаться под Боткина, правительство выставляет его сообщником нигилистов, выдумавших чуму, чтобы вызвать смуту“» [2].
Хочешь не хочешь, но само напрашивается сопоставление с ситуациями, нередко, к сожалению, имеющими место и в наше время.
Следует признать, что, диагностировав у дворника Наума Прокофьева чуму, С.П. Боткин всё-таки ошибся. Автор настоящей статьи, имея опыт ведения пациентов как с чумой, так и с туляремией, категорически первую у Н. Прокофьева отрицает. С другой стороны, С.П. Боткин и не говорит о классической чуме, а вводит некое понятие самостоятельной формы данного заболевания, которую называет «лёгкой формой чумы» не в плане течения её у данного конкретного больного — Н. Прокофьева, а как о некоей пусть не совсем самостоятельной, но всё-таки особенной «разновидности» чумы. При этом С.П. Боткин отметил, что это случай «не отличается, очевидно, заразительность и что от этого случая, даже если бы таковых встретилось и несколько, до эпидемии чумы лежит огромное расстояние» [4]. «…Я отмечал и демонстрировал в клинике, — говорил он, — на больных отклонения в клиническом течении обычных тифов… По поводу таких случаев я неоднократно высказывал предположение о занесённой уже к нам чумной заразе, но не проявляющейся в своей вполне обособившейся форме, по причине каких-то неизвестных нам условий, разрушающих заразу…» Именно поэтому необходимо зорко следить за проявлением чумной заразы в лёгком её виде, за теми случаями, которые вызывают обычно споры между врачами во все эпидемии [1, 2].
Была ли болезнь Н. Прокофьева туляремией? Сие нам неведомо, но есть все основания полагать, что это была всё-таки туляремия [5], однако не следует забывать, что до открытия возбудителя чумы оставалось 15 лет, а возбудителя туляремии — более 30 лет.
И как тут не вспомнить, что в России туляремию в народе называли и называют «малой чумой».
То, что термин «чума» в историческом плане есть понятие собирательное и включает несколько разных нозологических форм, становится ясным ещё при внимательном прочтении Святого Писания. В нашем же случае существование некого относительно легко протекающего чумоподобного заболевания описывали в России Г.И. Архангельский [6] в 1879 году, Н. Воскресенский [7] в 1886 году и М.И. Галанин [8] в 1897 году в форме «амбулантной (амбулаторной) чумы — pestis ambulans».
В 1877 году под Астраханью наблюдали вспышку заболеваний, сопровождавшихся лимфаденитами, заболело около 200 человек. Характеризуя общее состояние больных, Г.И. Архангельский отмечает, что они переносили чуму почти не прекращая привычных занятий или, как говорят, «на ногах» [6].
Более интересным источником стала статья J.F. Payne [9], опубликованная в 1880 году. Автор в своём отчёте о вспышке в Ветлянке также предоставил информацию об «астраханской чуме». Приписывая понятие pestis nostras (то есть «нашей чумы», местной чумы) русским врачам, J.F. Payne [9] поддержал идею о том, что астраханская болезнь, которая «дремала более года была той же самой, которая вновь появилась на ранних и более мягких стадиях эпидемии в Ветлянке5». Он пришёл к выводу, что чума может принимать две формы: лёгкую, несмертельную форму, поражающую лимфатическую систему, и злокачественную форму с высокой трансмиссивностью и летальным исходом. J.F. Payne [9] полагал, что лёгкая форма чумы безвредна в естественной среде, однако она может стать опасной при заносе «в густонаселённые места, где её вредоносность усиливается». Ещё более примечательным является подробный отчёт о медицинской миссии доктора C. Zuber [10] в Ветлянке. Там французский медицинский посланник отметил использование местными врачами термина pestis nostras и их предупреждение о том, что из-за этого Астрахань может «вскоре стать второй родиной чумы». Очевидно, внимательно прочитав J.F. Payne, доктор C. Zuber сопоставил термин pestis nostras с peste frustre (буквально «фрустрированная чума») стамбульских врачей, которые были знакомы с этой формой заболевания, существовавшей на «периферии чумных очагов» или в местностях, где чума является эндемичной. Тем, кто возражал, что «в свете современной науки» такая тяжёлая болезнь, как чума, не может принимать такую доброкачественную форму, C. Zuber [10] отвечал, что наличие pestes frustres — это хорошо установленные эпидемиологические факты, которые «я не берусь объяснять или соглашаться с общепринятыми доктринами: я просто ограничиваюсь наблюдением за их существованием».
Историки чумы в целом и в Индии в частности — лишь мимоходом отмечают эпизод так назывмой чумы в Калькутте в 1896 году [11]. В инциденте был замешан W.J. Simpson (1855–1931 гг.), ведущий британский эксперт по тропической гигиене и редактор Indian Medical Gazette, который позже станет известен своими авторитетными отчётами о чуме в Гонконге, на Золотом побережье (Гана) и своим Трактатом о чуме [12–14]. Именно он в 1896 году диагностировал её в Шропширском полку (Shropshire Regiment), который в то время дислоцировался в Калькутте. Однако его командование серьёзно оспорило этот диагноз, и после дальнейшего расследования Медицинская комиссия, состоящая из санитарных работников Гражданской службы Индии и врачей Индийской медицинской службы, пришла к выводу, что случая чумы не было. Интрига заключалась в том, что W.J. Simpson обнаружил серию случаев того, что он назвал pestis ambulans и что вскоре станет известно как «малая чума». А вот далее ситуация приобретает до боли знакомую картину, почти аналогичную таковой в случае с С.П. Боткиным и Наумом Прокофьевым.
Всё начинается с телеграммы, датированной 10 октября 1896 г., через месяц после того, как бубонная чума впервые появилась в Бомбее [11]. В сообщении, написанном докторами Ross и Dyson, описан случай семнадцатилетнего мальчика-евразийца из Гоа, J. Cotta, который, как сообщалось, прибыл из Байкулла, поражённого чумой района в Бомбее (Хаора), на окраине Калькутты, 26 сентября 1896 г. За пятнадцать дней до отъезда у мальчика отмечено болезненное увеличение левого пахового лимфатического узла, вскоре аналогичный процесс наблюдали и справа. После прибытия в Калькутту состояние сопровождалось ремиттирующей лихорадкой и крапивницей, что расценили как случай чумы. У J. Cotta взяли анализы, в том числе проведено бактериологическое исследованию крови, которое выполнил W.J. Simpson, выявившее микроорганизмы, принятыми за чумные: «Доктор W.J. Simpson выдал официальным лицам Хаора справку о том, что случай был бубонной чумой лёгкой формы…». Доктора Ross и Dyson, однако, неохотно согласились, что мальчик страдал чумой, поскольку симптомы казались слишком лёгкими для последней — J. Cotta мог ходить и сохранял необычное для случаев чумы удовлетворительное общее состояние. Это нежелание приняло более острую форму, когда дело дошло до хирурга-подполковника Sanders, который заявил, что это «сифилитическое заболевание»6. Однако другие врачи, участвовавшие в обсуждении этого случая, в частности хирург-подполковник A. Tomes, находились под впечатлением результатов бактериологических исследований W.J. Simpson и были вынуждены утверждать, что на самом деле это «амбулаторная лёгкая форма чумы». A. Tomes исключил наличие венерического заболевания, отметив, что в начале заболевания довольно часто чумные бубоны ошибочно принимаются за сифилитические [15]. Далее он отмечает, что этот типичный случай «амбулаторной чумы», которые, как известно, присутствуют в начале вспышек чумы и являются «менее заразным». Рассматривая противоречивые медицинские мнения, хирург-майор Walsh, исполняющий обязанности гражданского хирурга в Хаора, сообщил, что, исследовав образец крови J. Cotta и сравнив его с образцами возбудителей чумы, предоставленными из Бомбея доктором В. Хавкиным7, он приходит к убеждению, что это не чума в её истинной форме, а, возможно, «лёгкая форма амбулаторного чумного недуга» [11, 16]. Через несколько дней после прочтения о случае с J. Cotta майор-хирург Skinner из Калькуттского госпиталя написал письмо своему начальнику А. Cobb, сообщив тому, что солдаты, расквартированные в Форт-Уильям, страдали от подобных несифилитических бубонов. А. Cobb посетил больницу и пришёл к выводу, что солдаты, о которых идёт речь, были жертвами инфекции, аналогичной случаю с J. Cotta, и этот вердикт, по его утверждению, подтверждён микробиологическими тестами, проведёнными им самим и W.J. Simpson. Что показалось А. Cobb уместным, так это то, что эти люди принадлежали не к кому иному, как к Шропширскому полку, известному своей работой по борьбе с чумой в Гонконге двумя годами ранее, в 1894 году. Сообщалось, что, прибыв в Калькутту в январе 1895 г., они с тех пор страдали от «этой специфической болезни и опухания желёз, от которой страдают новые призывники, которые никогда не были в Гонконге» [15].
J. Cotta был выписан из стационара 26 октября, но в то же врем этот случай подогрел интерес медицинского сообщества, что вполне объяснимо в условиях растущего беспокойства колонистов по поводу распространения чумы в Британской Индии того времени. Изучение вопроса продолжил шотландский врач из Калькутты D.D. Cunningham, известный тем, что в 1884 году основал в Бомбее первую британско-индийскую исследовательскую лабораторию по изучению холеры [17]. Его назначили 10 октября 1896 г. во вновь созданный Медицинский совет, обязанности которого «ограничивались консультированием по бактериологическим вопросам» [18]. D.D. Cunningham получил культуры и бактериальные препараты, которые прислали ему А. Cobb и W.J. Simpson, ни один из которых, как было установлено, «не соответствовал точно по характеру типовым образцам, полученным в Бомбее от В. Хавкина», при этом обнаруженное в них присутствие других микробов приписывалось загрязнению из внешних источников [19]. После специального совещания комиссаров Калькутты по чуме, на котором W.J. Simpson задали вопросы о его опыте борьбы с этой болезнью и способности клинически и бактериологически отличать чуму от других заболеваний, Медицинская комиссия провела заседание 20 октября 1896 г., чтобы рассмотреть все возможные диагнозы8. Размышляя о вердикте D.D Cunningham, комиссия заявила, что «имеющиеся бактериологические данные не указывают на какой-либо определённый вывод относительно характера преобладающего заболевания» [20]. Чтобы развеять страх среди широкой общественности, вызванный популярным приписыванием «любого увеличения желёз эффекту чумы в случаях, которые в обычное время не привлекли бы никакого внимания», комиссия выпустила записку, в которой было указано, что эти случаи не являются чумой. Её копии разослали официальным лицам и прессе [11, 18].
Однако ответа на вопрос «Если это не чума, то тогда что это?» так и не последовало, но с высоты наших сегодняшних знаний, мы склоняемся к мысли, что речь шла всё-таки о туляремии…
Таким образом получается, что опытные врачи конца XIX века подспудно, интуитивно признавали существование внутри такой всем хорошо известной нозологии, как чума, некой её (чумы) более или менее самостоятельной формы (чумная инфекция слабой силы по С.П. Боткину, pestis ambulans, pestis nostras, peste frustre и т. д.), характеризующейся относительно лёгким течением и, как минимум, малой контагиозностью или, как максимум, полным отсутствием передачи от человека к человеку. Однако выделить эту pestis ambulans в отдельное, самостоятельное инфекционное заболевание не позволяла, видимо, инерция мышления (гипнотизирующая демоничность такого страшного и древнего диагноза, как чума!) и отсутствие полноценной лабораторной базы.
Возвращаясь снова к истории изучения туляремии в России [Советский Союз (СССР)], следует указать на работу В.А. Анищенко [21], который в июле 1921 г. наблюдал среди жителей прибрежных селений Оби, близ устья Иртыша, значительную эпидемию заболевания. Судя по клиническим особенностям описанных случаев, это была туляремия [21], однако диагноз официально озвучен не был [22].
На территории России (СССР) термин «туляремия» (в виде предположительного диагноза) впервые прозвучал в 1926 году в работе С.В. Суворова и соавт. [23]. Авторы выявили около 200 больных в нескольких населённых пунктах дельты Волги (44–50 км и более на юго-восток от Астрахани). Форма болезни была бубонной, причём паховые и бедренные бубоны отмечены у 3/4 пациентов, а у остальных — шейные и подмышечные. Большинство из них были мальчики-подростки, которые ловили водяных крыс, спасавшихся от высокого паводка и забегавших в населённые пункты. От трёх пациентов из бубона пассажем через морских свинок и последующим посевом на среду Бейля (с цистином, глюкозой и сывороткой) были выделены культуры возбудителя, агглютинировавшиеся сывороткой (в разведении 1:800) реконвалесцентов. Во время лабораторных работ с выделенным возбудителем четыре сотрудника переболели и их сыворотка также агглютинировала данные культуры [22, 24].
Не имея в своём распоряжении типовой противотуляремийной агглютинирующей сыворотки и эталонного штамма микроба туляремии, С.В. Суворов и соавт. [23, 24] определили изученное заболевание как «чумоподобный лимфаденит», но указали, что наибольшее сходство оно имеет с описанной в Соединённых Штатах Америки (США) туляремией.
Как видно на данном примере, авторы по всему миру и до, и после С.П. Боткина не могли легко и просто отойти от завораживающего диагноза «чума».
Таким образом, Россия (тогда — СССР) стала третьей после США и Японии страной, где к тому времени туляремия уже была известна [22].
В дальнейшем диагноз туляремии стали использовать всё чаще. В 1927–1928 гг. в различных областях СССР начали массовую заготовку шкурок водяной крысы, что в местах интенсивного их промысла немедленно повлекло за собой заболевания людей. В 1927 году 75 случаев такого заболевания наблюдали В.П. Пономарёв и Д.А. Шаип в Тобольском округе на берегу Иртыша, причём авторы, независимо от С.В. Суворова и его сотрудников, подметили сходство болезни с туляремией [25]. И.Н. Шухов [26] и Г.А. Шустер [27] наблюдали заболевания, связанные с промыслом водяной крысы, на Иртыше на севере Омской области и на р. Тавде. Изучая в 1928 году упомянутую выше вспышку заболеваний на р. Урале, Д.А. Голов и соавт. [28] выделили от водяных крыс пассажем через морских свинок и белых мышей (с последующим высевом на свёрнутую желточную среду) культуры микроба туляремии. Этим впервые точно доказали значение водяных крыс как источника туляремийной инфекции.
Г.И. Зархи [25], обследуя в 1928 году пациентов с туляремией в Тобольском округе (с. Мужи Обдорского района), из гноя бубона одного из них выделил пассажем через морскую свинку культуру возбудителя, агглютинировавшуюся сывороткой реконвалесцентов. Судя по описанию, возникновение заболеваний было связано не только с промыслом водяной крысы, но в некоторых случаях и с передачей инфекции кровососущими насекомыми. В процессе экспериментальной работы с выделенной культурой Г.И. Зархи в 1928 году заразился и переболел туляремией. С целью получения подтверждения диагноза он послал в Вашингтон G.W. MacCoy свою сыворотку, которая, по заключению последнего, агглютинировала до титра 1:640 американские штаммы микроба туляремии [22]. G.W. MacCoy также изолировал штамм туляремийных бактерий от морской свинки, которой инокулировали ткань селезёнки (морской свинки), предоставленной в то же время от Г.И. Зархи [22, 29]. В обмен Г.И. Зархи получил от G.W. MacCoy штамм (№ 38) американского происхождения и таким образом смог осуществить идентификацию с ним своего штамма, выделенного от пациента из Обдорского района [30]. В итоге Г.И. Зархи окончательно установил, что туляремия в США и «туляремиеподобные» или «чумоподобные» заболевания в СССР — одна и та же болезнь [22].
В ранней истории изучения туляремии в СССР были и трагические моменты. В начале 30-х годов при экспериментальных работах с культурами, выделенными от пациентов, доктор А.Я. Кроль заразился туляремией и умер от присоединившейся специфической пневмонии [31]. Предвидя возможный роковой исход заболевания, он завещал подвергнуть вскрытию и изучению своё тело, считая, что это будет первый случай в СССР исследования патологоанатомических изменений при туляремии у человека. Всё это свидетельствует о высоком чувстве долга и мужестве Александра Яковлевича Кроля (1881–1930 гг.), имя которого должно занять подобающее место в истории изучения туляремии в СССР [22, 32, 33].
Несколько ранее описанных событий на другой стороне земного шара — в США, — служба общественного здравоохранения (United States Public Health Service, USPHS), была сильно встревожена возможностью возникновения эпидемии чумы на территории страны в целом и в штате Калифорния в частности [34]. Причина такого беспокойства появилась в 1903 году, когда подозрительная на чуму болезнь почти уничтожила популяцию сусликов в округе Контра-Коста, к востоку от Сан-Франциско [35]. Несмотря на то что причина этой эпизоотии не была подтверждена, двое мужчин в этом районе умерли от чумы в том же году после того, как отстрелили и (или) съели «земляных белок» (Citellus beecheyi, Калифорнийский суслик) (рис. 1). В 1908 году там произошёл ещё один смертельный случай заболевания человека, а в материале, взятом от найденного неподалёку мёртвого суслика, выявлена чумная палочка. Исследования W.B. Wherry (1874–1936 гг.) [36], врача, временно приписанного к USPHS, показали, что 4 из 432 «земляных белок», собранных в округе, заражены чумой. В 1909 году G.W. McCoy (1876–1952 гг.) (рис. 2) начал исследование географического распространения этой болезни у «земляных белок». Он поступил на службу в USPHS в 1900 году, сразу после окончания медицинского факультета Университета Пенсильвании [34]. G.W. McCoy познакомился с W.B. Wherry на Филиппинах, где они оба заинтересовались бубонной чумой [37]. G.W. McCoy возглавлял Американскую лабораторию изучения чумы (U.S. Plague Laboratory) в Сан-Франциско с 1908 по 1911 год, а к сентябрю 1910 г. его команда застрелила и вскрыла тысячи «земляных белок», обнаружив патологические изменения внутренних органов у 402 животных [38]. Однако интрига состояла в том, что не все эти случаи болезни грызунов были чумой. У 42 «земляных белок» выявить возбудителя не удалось. Как и чума, эта инфекция вызвала у них увеличение лимфатических узлов, а также изменения некоторых внутренних органов, в частности селезёнки. Как в конце ХIХ века, так и в начале ХХ, термин «чума» похоже, продолжал действовать на учёных магически — не мудрствуя лукаво, G.W. McCoy охарактеризовал выявленное им заболевание у «земляных белок» как «plague-like disease of rodents» (чумоподобное заболевание грызунов) [38].
Рис. 1. Калифорнийский суслик, или «земляная белка» (Citellus beecheyi). © Wikipedia, 2009. Распространяется на условиях лицензии CC BY-SA 3.0.
Рис. 2. George Walter MacCoy (1876–1952 гг.). Изображение заимствовано из https://www.nih.gov/about-nih/nih-almanac/george-walter-mccoy-md
Используя эмульсии крови или тканей поражённых «земляных белок», G.W. McCoy передавал болезнь морским свинкам, кроликам, мышам, крысам, сусликам и обезьянам, втирая заражённый материал в кожу, вводя его подкожно и в брюшную полость, закапывая в носовые проходы или скармливая животным. Для подопытных животных болезнь обычно была смертельной, однако собаки, кошки и голуби оказались менее восприимчивыми. Бактериемия у больных морских свинок была интенсивной — инъекция даже незначительного количества крови от поражённого животного здоровому вызывала у последнего болезнь [38]. Нагревание инфицированной ткани или биологической жидкости до 55–60 °С в течение пяти минут убивало микрорганизм, который, как считал G.W. McCoy, был бактерией, поскольку он не проходил через фильтры, проницаемые для вирусных частиц. Подкожная инокуляция морским свинкам измельчённых блох, взятых от «земляных белок» или умерших от болезни морских свинок, воспроизводила заболевание. Инфицированные животные не были заразны: болезнь не распространялась «напрямую» между больными и здоровыми животными при совместном содержании в клетках, но развивалась, когда блохи, которые питались на заражённых животных, кусали непоражённых. Так, в эксперименте здоровых «земляных белок» поселили вместе с больными. В одной группе клеток также присутствовали многочисленные блохи, а вот в другой — отсутствовали. Несмотря на то что клетки находились рядом, развитие чумоподобного заболевания наблюдали только у тех животных, на которых паразитировали блохи [34, 38].
Применив для посевов среду Дорсе9, а затем специально разработанную плотную желточную среду, G.W. McCoy совместно с C.W. Chapin, ещё одним сотрудником USPHS (рис. 3), в 1911 году (статью об этом открытии опубликовали в 1912 году) выделили, наконец, от «земляных белок» возбудителя этой болезни в чистой культуре. По наименованию округа Туляре, на территории которого были выделены первые культуры, микроорганизм авторы назвали Bacterium tularense [30, 40]. Название же местности на языке населявших эти места индейцев означало разновидность крупного тростника — Tule, росшего в Туляре на обширных болотистых пространствах, из-за чего испанцы назвали эту местность «Tulares» [29]. К слову сказать, болота эти давно американцами осушены [22].
Рис. 3. Charles Willard Chapin (1866–1928 гг.). Изображение заимствовано из [41]. © Дадашева А.Э. и соавт., 2020. Распространяется на условиях лицензии CC BY 4.0.
Далее G.W. McCoy и C.W. Chapin выяснили, что бактерии были грамотрицательными и что их вирулентность снижалась после нескольких пассажей. Морские свинки, выжившие после подкожного введения культуры, были устойчивы к инфекции при последующей инъекции суспензии селезёнки инфицированного животного, что позволило предположить, что у них развился иммунитет. Кроме того, учёные также разработали тесты связывания комплемента и агглютинации для выявления антител к открытому ими микробу [34, 40].
Примечательно, что к работе с Bacterium tularense. G.W. McCoy в последующем более не возвращался. Позднее, в 1915 году, он стал четвёртым руководителем Гигиенической лаборатории США (U.S. Hygienic Laboratory), которая в 1930 году была переименована в Национальный институт здравоохранения (National Institute of Health). G.W McCoy и которым он руководил более 20 лет10 [41].
В процессе работы C.W. Chapin перенёс в течение 28 дней лихорадочную болезнь, не сопровождавшуюся увеличением лимфатических узлов или заметными первичными изменениями. Вскоре после выздоровления он обнаружил в собственной сыворотке крови, а также в сыворотке крови своего лаборанта комплемептсвязывающие антитела и агглютинины к В. tularense [22]. C.W. Chapin допускал, что заразился в своей лабоpатоpии и пpедположил, что выделенный им совместно с G.W. McCoy микроорганизм может быть патогенным для человека, однако мысль эту он дальше почему-то развивать не стал [41].
В то же время заболевания, сопровождавшиеся образованием бубонов, но чумой не являвшиеся, продолжали фиксировать на территории США. Так, D.T. Vail [42] наблюдал в Цинциннати в 1912 году заболевание, сопровождавшееся поражением глаза и увеличением регионарных лимфатических узлов. Он диагностировал его первоначально как конъюнктивит Парино I — доброкачественный преимущественно односторонний язвенно-гранулематозный конъюнктивит, описанный в 1889 году французским офтальмологом H. Parinaud (1844–1905 гг.)11. От этого больного W.B. Wherry и соавт. [43] посредством инокуляци морской свинке патологического материала, взятого из глаза пациента, впервые в медицинской практике выделили культуру В. tularense.
В августе 1910 г. в штате Юта среди фермеров было отмечено 6 случаев болезни, которую местные жители называли «deer-fly fever » («лихорадкой оленьей мухи»), связывая её возникновение с укусами мелкими слепнями вида Crysops discalis. При данной патологии наблюдали как воспаление места укуса, так и воспаление регионарных лимфатических узлов, которые в дальнейшем нагнаивались и дренировались через кожу. Другие признаки болезни включали лихорадку в течение 3–6 недель и выраженную прострацию, часто требующую длительного постельного режима [44]. Один из заболевших умер на 15-й день [45]. Заболевания подобного рода продолжали отмечаться и в последующие годы, например, в период с 1917 по 1920 год их было свыше 20 [22].
В 1919 году, по распоряжению комиссара по здравоохранению штата Юта, USPHS направила для изучения этого заболевания E. Francis (1872–1957 гг.), который получил степень доктора медицины в Университете Цинциннати в 1897 году и вступил в Службу здравоохранения США в 1900 году (рис. 4) [34, 37]. В августе 1919 года E. Francis обследовал 52-летнего фермера с «лихорадкой оленьей мухи», у которого выявлен лимфаденит за левым ухом. Он взял гной из лимфатических узлов, кровь из периферической вены и ввёл этот материал морским свинкам, что вызвало у них смертельную болезнь, похожую на ту, которую ранее описал G.W. McCoy. Материал от инфицированных животных дал рост B. tularense. Пациент умер на 27-й день болезни, а при вскрытии его тела E. Francis не использовал резиновых перчаток. Через пять дней у него внезапно возникли слабость и лихорадка, ввиду чего он провёл две недели в больнице. Первичного аффекта или лимфаденитов не наблюдалось. Температура спала через 24 дня, но E. Francis испытывал слабость в течение следующего месяца, в основном лёжа в своей комнате. Он медленно выздоравливал в течение ещё одного, третьего месяца. E. Francis не проводил у себя бактериологическое исследование, но антитела, обнаруженные несколько месяцев спустя, предположительно подтвердили «deer-fly fever». Почти каждую неделю с мая 1920 по 1936 год E. Francis проводил вскрытия поражённых животных без перчаток ввиду того, что «считал себя вполне иммунным» [46]. Его чувство неуязвимости было иллюзорным: он перенёс ещё четыре инфекции, проявлявшиеся в виде язв на пальцах и местного лимфаденита, которые дважды сопровождались кратковременной лихорадкой и слабостью [34]. В трёх случаях ему удалось выделить у себя B. tularense. «Мягкость» этих последующих приступов позволяла предположить, что первоначальная инфекция спровоцировала частичный иммунитет [46].
Рис. 4. Edward Francis (1872–1957 гг.). Изображение заимствовано из [41]. © Дадашева А.Э. и соавт., 2020. Распространяется на условиях лицензии CC BY 4.0.
Справедливости ради надо отметить, что E. Francis был не единственным, у кого развилась лабораторная инфекция. В течение двух лет все пять его помощников, которые препарировали или работали с инфицированными грызунами, также заболели и имели серологические доказательства того, что причиной была B. tularense [47]. Один учёный имел контакт с больными животными на полевой станции в штате Юта, а остальные четверо пострадавших работали в Лаборатории гигиены в Вашингтоне, округ Колумбия (Hygienic Laboratory, Washington, D. C.). В то время в этом учреждении работало около 100 человек, все они часто проходили мимо места, где животных прививали, препарировали и обрабатывали после вскрытия. Однако заболели только те четыре человека, которые имели непосредственный контакт с животными. Ни у кого из них не было явного первичного аффекта или увеличения лимфатических узлов, а характер их заболевания был идентичным — внезапный подъём температуры до высоких цифр и интоксикационный синдром, часто с мышечными болями и головной болью, а также потерей массы тела. Болезнь постепенно утихла через несколько недель. Летальных исходов не было, но выздоровление шло медленно. E. Francis выяснил, что C.W. Chapin, который имел дело с заражёнными грызунами во время работы с G.W. McCoy, заразился аналогичной болезнью в 1912 году, которая вывела его из строя на три недели. Вскоре после этого у него выработались антитела к B. tularense [48].
В 1921 году E. Francis сообщил о семи случаях «deer-fly fever» за предыдущий год и дал болезни название «туляремия», под которым она затем и вошла в международную номенклатуру. Несколько забегая вперед отметим, что в 1928 году за цикл исследований по туляpемии E. Francis был удостоен Золотой медали Амеpиканской медицинской ассоциации. Впрочем, он продолжал заниматься исследованием туляремии и после награждения [41, 46, 48–50]. Поскольку в штате Юта отмечался большой падёж зайцев12, E. Francis заподозрил, что причиной их смертей может быть именно туляремия, ввиду чего с мая по июнь 1920 г. его сотрудниками было отстреляно 556 животных, у 17 из которых была выделена B. tularense.
В ноябре 1921 года у торговца мясом в Вашингтоне (округ Колумбия) возникли высокая лихорадка, изъязвление пальца и подмышечный лимфаденит [51]. Больной сам поставил себе диагноз «rabbit fever» («кроличья лихорадка») — состояние, широко известное среди его коллег по торговле кроличьим мясом. E. Francis серологически подтвердил болезнь именно как туляремию. В январе 1923 г. указанный торговец мясом извлёк 914 образцов печени из тушек диких кроликов, которых он продал, и отвёз их E. Francis, который обнаружил B. tularense в семи пробах. Два животных были родом из Теннесси, что указывает на то, что эта патология присутствовала не только на Западе и Среднем Западе, но и на востоке США [51].
В заключение данного раздела необходимо сделать одно уточнение. В отечественной литературе иногда в качестве синонима диагноза «туляремия» используют как термин «заячья лихорадка» так и «кроличья лихорадка». В работе E. Francis и соавт. [48] действительно используют два термина: jackrabbits (заяц) и rabbit (кролик), причём в США в дикой природе обитают как те, так и другие. Однако в качестве обозначения именно болезни в англоязычной литературе используется термин «rabbit fever», то есть правильным будет использовать всё-таки термин «кроличья лихорадка».
В хронологическом порядке второй страной, которая признала существование туляремии в качестве самостоятельной нозологической формы, была Япония.
В 1837 году H. Soken (1804–1872 гг.), лейб-медик восточно-японского князя Mito, описал заболевание, причиной которого он посчитал «отравление мясом кроликов»13. Болезнь, развивавшаяся после употребления в пищу зайчатины, сопровожлалась ознобом, лихорадкой и лимфаденитом [52].
В 1924 году доктор H. Ohara (1882–1943 гг.) диагностировал похожее заболевание у нескольких членов одной семьи, развившееся через несколько дней после того, как они сняли шкуру, сварили и съели зайца (кролика). Проведя братьям лимфаденэктомию, он отпустил их домой, однако вскоре пациенты с подобными симптомами стали поступать в больницу один за другим, причём у всех заболевание было так или иначе связано с контактами с дикими кроликами, что насторожило H. Ohara. Доктор начал у себя в больнице масштабное исследование новой болезни и через год пришёл к выводу, что её возбудителем являлась неизвестная бактерия14 [53]. Единственным способом доказать свою правоту он видел в проведении экспериментов с участием людей, однако добровольцев не находилось. Тогда на помощь пришла жена H. Ohara — Riki, которая согласилась стать участницей эксперимента (рис. 5). Ради науки эта смелая женщина дала втереть в кожу кисти своей левой руки кровь инфицированного кролика [54], в результате чего через 52 часа у неё начались лихорадка, озноб и воспаление подмышечных лимфатических узлов. Через две недели после инфицирования H. Ohara иссёк у своей жены несколько подмышечных лимфатических узлов слева, размером с голубиное яйцо, в которых он обнаружил грамотрицательные бактерии, идентичные тем, которые выделяли от кроликов14 [54].
Рис. 5. Супружеская пара Riki и Hachiro Ohara. Заимствовано из URL: https://habane8.com/y/193/f.htm.
В эксперименте приняли участие ещё две женщины, однако им наносили кровь только на 10 минут и после этого разрешили вымыть руки мылом и хлоридом ртути. R. Ohara контактировала с кровью кролика в течение 20 минут и не дезинфицировала руки. В результате эксперимента заразилась только онa14.
H. Ohara назвал заболевание «Yatobyo» (yato — дикие кролики, byo — болезнь), а возбудителя Yatobyo — Bakterium, или coccus Ohara–Haga [53–56].
Задаваясь вопросом, не является ли эта болезнь туляремией, H. Ohara в 1925 году отправил кровь пяти пациентов в США в лабораторию E. Francis, который серологически подтвердил диагноз туляремии [57]. В том же году H. Ohara также послал ему пунктат лимфатического узла жены, который после пассажа на животных дал рост B. tularense [58]. E. Francis назвал это заболевание Ohara’s disease (болезнь Охары), считая её «японским вариантом» туляремии. К такому же выводу пришёл и сам H. Ohara [52, 56].
Однако на этом сложная история изучения туляремии не закончилась. Суть в том, что сами первооткрыватели возбудителя — G.W. McCoy и C.W. Chapin, не мудрствуя лукаво, дали ему в 1912 году наименование B. tularense [39, 40]. Однако даже уже к тому времени «границы» рода Bacterium в результате эволюции учения о систематике микроорганизмов значительно сузились, поэтому по своим свойствам возбудитель туляремии в них никак не вписывался. Ввиду этого одни исследователи стали относить возбудителя туляремии к роду Brucella [59, 60], другие — к роду Pasteurella [61, 62]. W.H. Hesselbrоск и соавт. [63] находили большое сходство микроба туляремии с группой возбудителей плевропневмонии, L. Foshaу [64] указывал также на возможность родства между микробом туляремии и грибами.
В. Galli-Va1eriо [65] предлагал отнести возбудителей туляремии и бруцеллёза к роду Coccobacterium, но это родовое название оказалось неприемлемым, поскольку его ранее уже использовали для других бактерий [22].
Впрочем, свойства возбудителя туляремии отличны от свойств бруцелл и пастерелл, поэтому относить микроба туляремии в эти роды оснований не было.
В результате всех перипетий в итоге было принто «соломоново» решение — введено новое родовое наименование Francisella, предложенное К.Л. Дорофеевым [66] в 1947 году и оформленное им согласно международным правилам номенклатуры. Однако установление родового названия не даёт основания, как это предлагал К.Л. Дорофеев, для изменения названия болезни на «френсиселлёз». Позднее К.А. Дорофеев [67] выступил с новым предложением об изменении родового наименования микроба на Tularecella, которое использовал в своей докторской диссертации, но, согласно международным правилам бактериологической номенклатуры [68], нельзя изменять родовое или видовое название, если к тому нет достаточных оснований [22].
Таким образом, таксономия возбудителя туляремии представлена на сегодняшний день следующим образом:
- домен: Bacteria;
- тип: Proteobacteria;
- класс: Gammaproteobacteria;
- порядок: Thiotrichales;
- семейство: Francisellaceae;
- род: Francisella;
- вид: F. tularensis.
В дальнейшем туляремию выявили и описали практически во всех странах и на всех континентах, включая Австралию и Тасманию, за исключением, пожалуй, Южной Америки и Антарктиды, но это уже совсем другая история.
Дополнительная информация
Вклад автора. В.В. Никифоров — концепция работы, сбор и анализ литературных данных, написание и редактирование текста рукописи. Автор одобрил рукопись (версию для публикации), а также согласился нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Этическая экспертиза. Неприменимо.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Автор заявляет об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы автор не использовал ранее опубликованные сведения (текст, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подготовлена по просьбе редакции журнала, была рассмотрена во внеочередном порядке без участия рецензентов.
Additional information
Author contributions: V. V. Nikiforov: conceptualization, resources search and analysis, writing—review & editing. The author approved the version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Ethics approval: Not applicable.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The author has no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer-review: This work was prepared at the request of the journal’s editorial office and underwent prioritized review without the involvement of external reviewers.
1 1879 года.
2 Сифилис.
3 13 февраля 1879 г.
4 № 1069 от 19 февраля 1879 г.
5 Ветлянская чума под Астраханью (1878–1879 гг.).
6 Ну как тут не вспомнить ситуацию с С.П. Боткиным и Н. Прокофьевым.
7 Наш соотечественник.
8 The Plague Scare // Amrita Bazar Patrika. 1896 Oct. 19:6.
9 Среда Дорсе — разновидность плотной питательной среды, изготовленной на основе яиц. Её используют для консервации, оживления или выделения микроорганизмов.
10 George Walter McCoy, M.D.; [около 1 страницы]. В: National Institutes of Health (US) [Internet]. Bethesda (MD): National Institutes of Health (US), — 2025. Режим доступа: https://www.nih.gov/about-nih/what-we-do/nih-almanac/george-walter-mccoy-md Дата обращения: 23.03.2025.
11 Синдром Парино I — синонимы, авторы, клиника; [около 1 страницы]. В: МедУнивер [Internet]. Москва: МедУнивер, 2021–2025. Режим доступа: https://meduniver.com/Medical/genetika/sindrom_parino_1.html Дата обращения: 23.03.2025.
12 В оригинале jackrabbits, что можно перевести двояко — как зайцы, так и кролики.
13 Синдром Охары (Ohara) — синонимы, авторы, клиника; [около 1 страницы]. В: МедУнивер [Internet]. Москва: МедУнивер, 2021–2025. Режим доступа: https://meduniver.com/Medical/genetika/sindrom_oxari.html Дата обращения: 23.03.2025.
14 Francisella tularensis — почему такое название?; [около 4 страниц]. В: AMRhub [Internet]. Cмоленск: AMRhub, 2023–2025. Режим доступа: https://amrhub.ru/blog/2023/11/12/ety-tularemia/?ysclid=mcre8v0rw2220909005 Дата обращения: 23.03.2025.
About the authors
Vladimir V. Nikiforov
Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov; Federal Research and Clinical Center of Specialized Medical Care and Medical Technologies
Author for correspondence.
Email: v.v.nikiforov@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-2205-9674
SPIN-code: 9044-5289
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, 1 Ostrovityanova st, Moscow, 117997; MoscowReferences
- Sirotinin VN, editor. Course of the Clinic of Internal Medicine by Professor Sergei Petrovich Botkin: with the appendix of a portrait of the author and a biographical essay. 3rd ed. Saint Petersburg: Society of Russian Doctors in Saint Petersburg; 1912. P. 44–43. (In Russ.) Available from: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003788550?page=23&rotate=0&theme=white
- Nilov E. Botkin. Moscow: Molodaja gvardija; 1966. (In Russ.) Available from: https://biography.wikireading.ru/168184
- Belogolovyj NA. S.P. Botkin: his life and medical work: a biographical essay by Dr. N.A. Belogolovyj. Saint Petersburg: Printing house Yu.N. Erlikh; 1892. (In Russ.) Available from: https://biografii.niv.ru/lit/text/395/36837/Belogolovyj/sergej-botkin-ego.htm
- Bilibin AF. Semiotics and diagnostics of infectious diseases. Moscow: Medgiza; 1950. (In Russ.) Available from: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005759588/?ysclid=mcosq1c469236066536
- Bilibin AF. Clinic and treatment of tularemia [dissertation]. Moscow; 1943. (In Russ.)
- Arhangelskij GI. Ambulant form of plague (Pestis Ambulans) and its importance for epidemiology. Saint Petersburg: Printing house of M.M. Stasyulevich; 1879. (In Russ.) Available from: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003591700/?ysclid=mcot1a7ose723406326
- Voskresensky N. Idiopathic buboes. Vrach. 1886;(34):35–36. (In Russ.)
- Galanin MI. Bubonic plague, its historical and geographical distribution, etiology, symptomatology and prevention: with the appendix Bacteriology and therapy of plague, compiled from the research of Yersin, Kitasato, Aoyama and others. Saint Petersburg: edition by N.P. Petrov; 1897. (In Russ.) Available from: https://search.rsl.ru/ru/record/01003677968?ysclid=mcotaeyw2f850035227
- Payne JF. On Certain Points Connected with the Epidemic of Plague in the Province of Astrakhan, Russia, in the Winter of 1878–79. Trans Epidemiol Soc Lond. 1880;4(Pt 3):362–375.
- Zuber C. Rapport sur une missione médicale en Russie; La peste du gouvernement d’Astrakhan. In: Recueil des travaux du Comité Consultatif d’hygiène publique de France et des actes officiels de l’administration sanitaire. Vol. 9. Paris: A. Lahure; 1880. P. 140–150. (In French)
- Lynteris C. Pestis Minor: The History of a Contested Plague Pathology. Bulletin of the History of Medicine. 2019;93(1):55–81. doi: 10.1353/bhm.2019.0002
- Simpson WJ. Report on the Causes and Continuance of Plague in Hongkong and Suggestions as to Remedial Measures. London: Waterlow and Sons; 1903. Available from: https://iiif.wellcomecollection.org/pdf/b21297496
- Simpson WJ. A Treatise on Plague: Dealing With the Historical, Epidemiological, Clinical, Therapeutic and Preventive Aspects of the Disease. Cambridge: Cambridge University Press; 1905. Available from: https://iiif.wellcomecollection.org/pdf/b21296960
- Simpson WJ. Report on Plague in the Gold Coast in 1908. London: J. & A. Churchill; 1909. Available from: https://iiif.wellcomecollection.org/pdf/b31358494
- Tomes A. The First Case of Plague in Howrah. Ind Med Gaz. 1896;31(12):447.
- Indian Plague Commission, 1898–99, Minutes of Evidence Taken by the Indian Plague Commission with Appendices. London: Printed for H.M.S.O. by Eyre and Spottiswoode; 1900.
- Isaacs JD. D D Cunningham and the aetiology of cholera in British India, 1869–1897. Med Hist. 1998;42(3):279–305. doi: 10.1017/s0025727300063997
- History and Proceedings of the Bengal Plague Commission, 1896 to 1898. Calcutta: Bengal Secretariat Press; 1899. Available from: https://ia902908.us.archive.org/31/items/in.ernet.dli.2015.23812/2015.23812.History-And-Proceedings-Of-The-Bengal-Plague-Commission.pdf
- Nathan R. The Plague in India 1896, 1897. Vol. 2. Simla: Government Central Printing Office; 1898. Available from: https://ia803401.us.archive.org/21/items/in.ernet.dli.2015.24093/2015.24093.The-Plague-In-India-1896-97-Vol-2_text.pdf
- The Medical Board. Plague in Calcutta. Indian Lancet. 1896:453.
- Anishhenko VA. Epidemic polyadenitis (epidemic in the mouths of the Irtysh). Ural’skij vrach. 1922;(2):34–37. (In Russ.)
- Olsuf’ev NG, Rudnev GP. Tularemia: A Guide. Moscow: Medgiz; 1960. (In Russ.) Available from: https://search.rsl.ru/ru/record/01008423166?ysclid=mcqaoj6swi589582658
- Suvorov SV, Vol’ferc AA, Voronkova MM. Plague-like lymphadenitis in the lower reaches of the Volga in the summer of 1926. Proceedings of the First All-Union Anti-Plague Conference. Saratov, 1927 May 31 to Jun 3. Saratov; 1927. P. 90–101. (In Russ.) Available from: https://search.rsl.ru/ru/record/01009242416?ysclid=mcqav9c3ni772736764
- Suvorov SV, Vol’ferc AA, Voronkova MM. Plague-like lymphadenitis in the Astrakhan region. Vestnika mikrobiologii, jepidemiologii i parazitologii. 1928;VII(3):293–299. (In Russ.)
- Zarhi GI. Tularemia in the Obdorsky region in 1928. Zhurnal mikrobiologii, jepidemiologii i immunobiologii. 1929:8(3):249–261. (In Russ.)
- Shuhov IN. On the issue of epidemic diseases in connection with the water rat trade. Omskij medicinskij zhurnal. 1928;(1):90–94. (In Russ.)
- Shuster GA. On “tularemia-like” occupational diseases in connection with the water rat trade. Sibirskij medicinskij zhurnal. 1930;(9-10):85–91. (In Russ.)
- Golov DA, Knjazevskij AN, Berdnikov VA, Tiflov VE. Plague-like diseases (tularemia?) on the Ural River in the Orenburg and Ural provinces in the spring of 1928. Vestnika mikrobiologii, jepidemiologii i parazitologii. 1928;VII(3):301–326. (In Russ.)
- Simpson WM. Tularemia: history, pathology, diagnosis and treatment. New York: P. B. Hoeber, inc.; 1929. Available from: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015009661862&seq=17
- Zarhi GI. Epizootic of tularemia among water rats and methods of its study. Gigiena i jepidemiologija. 1930;(8-9):40–45. (In Russ.)
- Pahotina-Krol’ EP. Illness and death of Dr. A.Ya. Krol. Trudy Vserossijskogo instituta jeksperimental’noj mediciny. 1933;1(1):77–79. (In Russ.)
- Pervushin BP. In loving memory of Alexander Yakovlevich Krol. Sibirskij medicinskij zhurnal. 1930;(11-12):1–3. (In Russ.)
- Rudakov NV. Omsk Research Institute of Natural Focal Infections: at the origins of the sanitary-epidemiological service of Siberia. Omsk Research Institute of Natural Focal Infections is 100 years old: historical materials. Omsk: Publishing center of KAN; 2021. P. 4–24. (In Russ.) ISBN: 978-5-907156-87-6 Available from: http://oniipi.org/wp-content/uploads/2021/10/Омскому-НИИПОИ-100-лет-история.pdf
- Hirschmann JV. From Squirrels to Biological Weapons: The Early History of Tularemia. The American Journal of the Medical Sciences. 2018;356(4):319–328. doi: 10.1016/j.amjms.2018.06.006
- McCoy GW. Plague among Ground Squirrels in America. Epidemiology and Infection. 1910;10(4):589–601. doi: 10.1017/S002217240004314X
- Wherry WB. Plague Among the Ground Squirrels of California. Journal of Infectious Diseases. 1908;5(5):485–506. doi: 10.1093/infdis/5.5.485
- Barry J. Notable contributions to medical research by Public Health Service scientists: A biobibliography to 1940. Washington: Department of Health, Education and Welfare. Public Health Service, Public Health Service Publication; 1960. Available from: https://digirepo.nlm.nih.gov/ext/kirtasbse/59610180R/PDF/59610180R.pdf
- McCoy GW. A plague-like disease of rodents. Public Health Bull. 1911;45:53–71.
- McCoy GW, Chapin CW. Further Observations on a Plague-Like Disease of Rodents With a Preliminary Note on the Causative Agent, Bacterium Tularense. The Journal of Infectious Diseases. 1912;10(1):61–72. doi: 10.1093/infdis/10.1.61
- McCoy GW, Chapin CW. V. Bacterium Tularense the Cause of a Plague-Like Disease of Rodents. Public Health Bull. 1912;53:17–23.
- Dadasheva AE, Mamedov MK. Tularemia: Main Milestines in Investigation of Infection. Biomedicine (Baku). 2020;18(1):22–27. doi: 10.24411/1815-3917-2020-11804
- Vail DT. Bacillus Tularense Infection of the Eye. Ophthalm Rec. 1914;23:487–489.
- Wherry WB, Lamb ВН. Infection of Man With Bacterium Tularense. The Journal of Infectious Diseases. 1914;15(2):331–340. doi: 10.1093/infdis/15.2.331
- Francis E. Deer-Fly Fever, or Pahvant Valley Plague: A Disease of Man of Hitherto Unknown Etiology. Public Health Reports (1896–1970). 1919;34(37):2061–2062. doi: 10.2307/4575306
- Pearse RA. Insect Bites. Northwest Med. 1911;3:81–82.
- Francis E. Immunity in Tularemia. Trans Assoc Amer Physicians. 1936;51:394–398.
- Francis E. Tularaemia Francis 1921: VII. Six Cases of Tularaemia Occurring in Laboratory Workers. Public Health Reports. 1922;37:392–413. Available from: https://archive.org/details/jstor-4576294/page/n1/mode/2up
- Francis E, Mayne B, Lake GC. Tularaemia Francis 1921. Public Health Reports (1896–1970). 1921;36(30):1731–1753. doi: 10.2307/4576069
- Francis E. Tularemia. JAMA. 1925;84:1243–1250.
- Francis E. Sources of Infection and Seasonal Incidence of Tularemia in Man. Public Health Reports. 1937;52:103–113.
- Francis E. Tularaemia: IX. Tularemia in the Washington (D.C) Market. Public Health Reports (1896–1970). 1923;38(25):1391–1404. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/instance/1975889/pdf/pubhealthreporig02934-0001.pdf
- Ohara S. Studies on yato-byo (Ohara’s disease, tularemia in Japan). I. Jpn J Exp Med. 1954;24(2):69–79.
- Ohara H. On an Acute Febrile Disease Transmitted by Wild Rabbits. Jpn. Med. World. 1926;6:763–271.
- Ohara H. Experimental Inoculation of Disease of Wild Rabbits Into the Human Body, and its Bacteriological Study. Jpn. Med. World. 1926;6:799–304.
- Tärnvik A, Berglund L. Tularaemia. Eur Respir J. 2003;21(2):361–373. doi: 10.1183/09031936.03.00088903 EDN: YKNJOE
- Ohara Y, Sato T, Homma M. Epidemiological analysis of tularemia in Japan (yato-byo). FEMS Immunol Med Microbiol. 1996;13(3):185–189. doi: 10.1111/j.1574-695X.1996.tb00234.x
- Francis E, Moore D. Identity OF Ohara’s disease and Tularemia. JAMA. 1926;86(18):1329–1332. doi: 10.1001/jama.1926.02670440003002
- Jellison WL. Tularemia: Dr. Edward Francis and his first 23 isolates of Francisella tularensis. Bull Hist Med. 1972;46(5):477–485.
- Wilson GS, Miles AA. Tоpleу and Wilson’s Principles of Bacteriology and Immunity. London: Edward Arnold & Co.; 1929. Available from: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.61118/page/n1/mode/2up
- Shtucer MI. On the differentiation of brucellosis (Maltese fever and tularemia) using skin reaction. Zhurnal mikrobiologii, jepidemiologii i immunobiologii. 1936;XVII(2):184–187. (In Russ.)
- Breed RS, Murray EGD, Hitchens AP. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. Baltimore: The Williams & Wilkins Company; 1948. Available from: https://www.biodiversitylibrary.org/item/122853#page/5/mode/1up
- Shtiben VD, Babich IK. Identifier of bacteria pathogenic to humans. Мoscow: Medgiz; 1955. (In Russ.) Available from: https://search.rsl.ru/ru/record/01008380041?ysclid=mcrfrvl3xe529694878
- Hesselbrock WH, Foshay L. The Morphology of Bacterium Tularense. Journal of Bacteriology. 1945;49(3):209–231. doi: 10.1128/jb.49.3.209-231.1945
- Foshaу L. Tularemia. Annual Review of Microbiology. 1950;4,313–330. doi: 10.1146/annurev.mi.04.100150.001525
- Galli-Va1eriо В. Observations sur 1’agent specifique de la tularemic. Schweiz. Med. Wschr. 1938;44:1206–1207.
- Dorofeev KA. On the classification of the causative agent of tularemia. In: Collection of scientific works of the Chita Institute of Epidemiology and Microbiology. Chita; 1947. P. 170–180. (In Russ.)
- Dorofeev KA. Tularemia (tularecellosis) of animals [dissertation abstract]. Leningrad; 1956. 18 p. (In Russ.)
- Buchanan RE, John-Brooks RST, Breed RS. International Bacteriological Code of Nomenclature. J Bacteriol. 1948;55(3):287–306. doi: 10.1128/jb.55.3.287-306.1948
Supplementary files