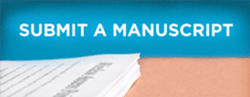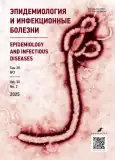A rare case of fulminant meningococcal sepsis with atypical manifestations: a case report
- Authors: Galeeva N.V.1, Nikolaeva I.V.1, Fatkullin B.S.2, Gimadieva I.R.2, Gaynatullina L.R.2, Sharafutdinova A.R.3
-
Affiliations:
- Kazan State Medical University
- Professor A.F. Agafonov Republican Clinical Infectious Diseases Hospital
- Republican Bureau of Forensic Medical Examination
- Issue: Vol 30, No 2 (2025)
- Pages: 129-136
- Section: Case reports
- Submitted: 12.03.2025
- Accepted: 11.06.2025
- Published: 05.09.2025
- URL: https://rjeid.com/1560-9529/article/view/677096
- DOI: https://doi.org/10.17816/EID677096
- EDN: https://elibrary.ru/AQSYJZ
- ID: 677096
Cite item
Abstract
Due to its wide spectrum of clinical manifestations and severe course associated with high mortality, meningococcal infection remains a socially significant disease.
Currently, an increase in cases of meningococcal infection with atypical clinical manifestations is being observed, which are characterized by higher mortality rates. This is associated both with microbiological features of the pathogen and with diagnostic and therapeutic errors in managing such patients. Early microbiological testing serves as a key diagnostic method for atypical forms of the disease. In the absence or late initiation of treatment, the generalized form of meningococcal infection almost invariably leads to death. Even with timely and adequate therapy, mortality reaches 10%–15%, and up to 20% of survivors suffer from disabling sequelae that significantly reduce quality of life.
This article describes a clinical case of a generalized form of meningococcal infection in an otherwise healthy 43-year-old man. The infection was caused by a nontypeable Neisseria meningitidis, and the disease manifested as fulminant sepsis with shock, gastroenteritis, and pronounced abdominal syndrome without hemorrhagic rash or meningeal signs. Meningitis was confirmed only by histopathological examination of brain tissue. Despite intensive therapy, the infection progressed rapidly, resulting in death 18 hours after the onset of initial symptoms.
This case demonstrates that the generalized form of meningococcal infection may present with sepsis and gastrointestinal symptoms in the absence of hemorrhagic rash and meningeal signs. Physicians in both outpatient and hospital settings should consider this possibility in their diagnostic evaluation.
Full Text
АКТУАЛЬНОСТЬ
Менингококковая инфекция (МИ) представляет собой важную проблему здравоохранения Российской Федерации [1–3]. В 2020–2021 гг. наблюдали снижение заболеваемости МИ (0,22 случая на 100 тыс. населения), что было связано с противоэпидемическими мероприятиями, направленными на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Однако в 2022–2023 гг. уровень заболеваемости МИ в Российской Федерации вырос более чем в 2 раза по сравнению с показателями 2022 г. [1].
МИ имеет широкий спектр клинических проявлений от бактерионосительства и назофарингита до менингита и фульминантного менингококкового сепсиса, смерть от которого наступает в течение нескольких часов после появления первых симптомов. МИ чаще протекает в форме менингита, септицемии или их комбинации [2–4].
Классические симптомы менингита включают лихорадку, сильную головную боль, положительные менингеальные знаки, повторную рвоту и нарушение сознания. Лихорадка, геморрагическая сыпь, артериальная гипотензия, тахикардия являются классическими признаками менингококцемии. Для этой формы инфекции характерна самая высокая летальность [3]. Генерализованная форма менингококковой инфекции (ГФМИ) может иметь атипичные проявления, такие как септический артрит, перикардит, эндокардит, миоперикардит, эпиглотит, пневмония, энтерит, перитонит, фасциит, а также поражения глаз (ирит, иридоциклит). Диагностика подобных случаев представляет значительные трудности [5–9].
Летальность при атипичных формах МИ выше, что обусловлено особенностями возбудителя, а также ошибками в диагностике и лечении этих пациентов [4–6]. При отсутствии адекватной терапии ГФМИ, как правило, приводит к летальному исходу. Даже при проведении интенсивной терапии уровень смертности достигает 10–15%, а у 20% выживших развиваются инвалидизирующие осложнения, которые ухудшают качество их жизни [10, 11].
Штаммы N. meningitidis, вызывающие ГФМИ, обычно имеют капсулу и устойчивы к факторам гуморального иммунитета, что способствует их гематогенному распространению. В отличие от них, некапсулированные (нетипируемые) штаммы N. meningitidis подвержены опсонизации и редко вызывают инвазивные формы инфекции [12]. Таким образом, изучение клинических особенностей менингококковой инфекции остаётся актуальной задачей.
В данной статье мы описываем редкий случай фульминантного менингококкового сепсиса с атипичными проявлениями, вызванного нетипируемым штаммом N. meningitidis.
ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ
О пациенте
Мужчина 43 лет. Вредных привычек не имел. Травмы и операции отсутствуют. Перенесённые заболевания: нечастые острые респираторные инфекции. Аллергологический анамнез не отягощён.
Эпидемиологический анамнез
Контакты с инфекционными больными отрицал. За пределы города не выезжал.
Анамнез заболевания
Заболевание началось остро вечером с повышения температуры до 39–40 °С, болей в животе, тошноты, рвоты до 5 раз, жидкого стула и позывов к мочеиспусканию без выделения мочи. Утром состояние пациента ухудшилось, появился цианоз кожи и выраженное беспокойство. При осмотре врач скорой помощи не смог определить артериальное давление (АД). На фоне инфузии дофамина АД повысилось до 100/60 мм. рт. ст. Пациент доставлен через 11 часов от начала заболевания в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. проф. А.Ф. Агафонова (Казань, Россия) с направительным диагнозом: «Острая респираторная вирусная инфекция. Артериальная гипотензия».
Дежурный врач и реаниматолог осмотрели пациента в приёмно-диагностическом отделении. Состояние пациента оценили, как крайне тяжёлое из-за инфекционно-токсического, абдоминального, почечного синдромов и септического шока. АД — 74/45 мм. рт. ст., пульс — 89 в мин, температура тела 36,7 °С, частота дыхания — 20 в мин, сатурация кислорода — 92%. Пациент находился в состоянии ажитации, на вопросы отвечал правильно. Наблюдался цианоз лица, туловища и конечностей. Сыпь отсутствовала. Менингеальные знаки отрицательные. Больной жаловался на сильные боли в эпигастральной области. При аускультации: в лёгких дыхание проводилось по всем полям, выслушивались сухие хрипы; тоны сердца глухие, патологические шумы отсутствовали. С помощью мочевого катетера получили 100 мл мочи.
Хирург провёл осмотр пациента и исключил хирургическую патологию. Пациента госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) с предварительным диагнозом: «Сепсис? Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), тяжёлое течение?».
Результаты физикального, лабораторного и инструментального исследований
При осмотре пациента в ОРИТ врачи оценили состояние пациента как очень тяжёлое за счёт интоксикации, септического шока 3-й степени, дыхательной недостаточности 2–3-й степени, болевого синдрома. Больной был в сознании (по шкале Глазго 15 баллов) и поддерживал контакт. Пациент жаловался на сильные боли в эпигастрии, тошноту, периодическую рвоту. Выявлен выраженный цианоз слизистых, кожи лица, шеи и верхней половины груди. Сыпь и менингеальные знаки отсутствовали. Температура тела — 38 °С, частота дыхания — 27 в мин с одышкой смешанного характера. Пульс — 90 ударов в мин, АД — 108/70 мм рт. ст. на фоне инфузии норадреналина (0,3 мкг/(кг×мин)). При пальпации живот был мягким, болезненным во всех отделах. Симптом Щёткина–Блюмберга отрицательный. Очаговая неврологическая симптоматика отсутствовала. Определялся положительный симптом Пастернацкого справа, сомнительный слева.
С целью поиска возможного очага инфекции проведены инструментальные исследования. Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки не выявила очаговых и инфильтративных патологий. Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастом не показала дефектов контрастирования лёгочной артерии, её главных, а также субсегментарных ветвей. Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастом выявила признаки уплотнения паранефральной клетчатки, гепатомегалию и спленомегалию. Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей не обнаружило тромбоза. Люмбальную пункцию не проводили в связи с тяжестью состояния пациента.
Экспресс тесты на грипп, COVID-19 и ГЛПС отрицательные. Бактериологическое исследование крови выявило N. meningitidis (негруппируемый штамм). Клинический анализ крови показал выраженную тромбоцитопению (32×109/л), нейтрофилёз (92,9%), лимфопению (6,4%) (табл. 1). Биохимический анализ крови выявил изменения, характерные для сепсиса: повышение уровня лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансферазы, общего билирубина, ферритина, С-реактивного белка и прокальцитонина (табл. 2). Коагулограмма показала нарушения, характерные для синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС-синдром) в стадии гипокоагуляции: гипофибриногенемия (0,7 г/л), удлинение протромбинового времени (25,9 сек), высокий показатель международного нормализированного отношения (2,29), активированного частичного тромбопластинового времени (124,1 сек), Д-димера (5414,5 нг/мл) и снижение протромбинового индекса (42,5%).
Таблица 1. Результаты показателей клинического анализа крови
Показатель | Результат | Референсные значения |
Коэффициент анизоцитоза эритроцитов, фл | 44,4 | 37,0–54,0 |
Коэффициент анизоцитоза эритроцитов, % | 13,7 | 11,0–16,0 |
Средний объём эритроцитов, фл | 91,70 | 77,00–101,00 |
Эритроциты, 1012/л | 5,35 | 4,10–5,70 |
Незрелые гранулоциты, % | 0,50 | 0,00–0,50 |
Незрелые гранулоциты, 109/л | 0,05 | 0,00–0,03 |
Лейкоциты, 109/л | 9,0 | 4,5–9,0 |
Гемоглобин, г/л | 173 | 117–173 |
Гематокрит, % | 49,0 | 35,0–50,0 |
Тромбоциты, 109/л | 32 | 142–424 |
Тромбокрит, % | 0,03 | 0,15–0,40 |
Гемоглобин, г/л | 173 | 117–173 |
Среднее содержание гемоглобина, пг | 32,3 | 26,0–34,0 |
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, г/л | 353,0 | 310,0–370,0 |
Средний объём тромбоцита, фл | 9,60 | 9,00–13,00 |
Ширина распределения тромбоцитов, фл | 16,3 | 9,0–17,0 |
Коэффициент крупных клеток тромбоцитов, % | 26,70 | 13,00–43,00 |
Коэффициент крупных клеток нейтрофилов, % | 92,9 | 37,0–72,0 |
Коэффициент крупных клеток лимфоцитов, % | 6,4 | 20,0–50,0 |
Коэффициент крупных клеток моноцитов, % | 0,50 | 0,00–14,00 |
Коэффициент крупных клеток эозинофилов, % | 0,10 | 0,00–6,00 |
Коэффициент крупных клеток базофилов, % | 0,10 | 0,00–1,00 |
Нейтрофилы, 109/л | 8,4 | 1,5–7,0 |
Лимфоциты, 109/л | 0,58 | 1,00–3,70 |
Моноциты, 109/л | 0,04 | 0,00–0,70 |
Эозинофилы, 109/л | 0,01 | 0,00–0,40 |
Базофилы, 109/л | 0,01 | 0,00–0,10 |
Таблица 2. Биохимические показатели крови
Показатель | Результат | Референсные значения | |
13.10.2024 (10:36) | 13.10.2024 (14:29) | ||
Кальций ионизированный, ммоль/л | – | 0,46 | 1,12–1,32 |
Альбумин, г/л | – | 29,1 | 35,0–50,0 |
Общий белок, г/л | – | 46,6 | 65,0–85,0 |
Билирубин общий, мкмоль/л | 31,9 | 34,3 | 5,0–21,0 |
Билирубин прямой, мкмоль/л | – | 13,3 | 0,0–5,1 |
Билирубин непрямой, мкмоль/л | – | 21,0 | 1,7–17,1 |
Аланинаминотрансфераза, Ед/л | 23,8 | 579,4 | 0,0–40,0 |
Аспартатаминотрансфераза, Ед/л | 68,0 | 378,8 | 0,0–38,0 |
Альфа–aмилаза, Ед/л | 78,0 | 235,0 | 0,0–100,0 |
Мочевина, ммоль/л | 8,2 | 11,0 | 2,5–8,3 |
Креатинин, мкмоль/л | 190 | 240 | 53–97 |
Глюкоза, ммоль/л | 6,6 | 10,9 | 4,0–6,1 |
Натрий, ммоль/л | 141,1 | 140,1 | 135,0–145,0 |
Калий, ммоль/л | 3,48 | 6,27 | 3,50–5,10 |
Хлориды, ммоль/л | 98 | 89 | 98–107 |
Лактатдегидрогеназа, Ед/л | 387,1 | 1 092,3 | 132,0–248,0 |
Ферритин, нг/мл | 401,2 | 308,7 | 20,0–250,0 |
C-реактивный белок, мг/л | 142,10 | 89,50 | 0,00–5,00 |
Щелочная фосфатаза, Ед/л | 195,0 | – | 40,0–129,0 |
Гамма-глутамилтрансфераза, Ед/л | 33,1 | – | 0,0–50,0 |
Прокальцитонин, нг/мл | 55,270 | – | 0,00–0,50 |
Тропонин, нг/мл | <0,01 | – | <=0,1 нг/мл: острый инфаркт миокарда исключён; >0,1 нг/мл: подозрение на острый инфаркт/ишемическое повреждение миокарда |
Исследование кислотно-основного состояния (КОС) выявило декомпенсированный ацидоз смешанного характера и лактацидемию (табл. 3).
Таблица 3. Показатели кислотно-основного статуса венозной крови
Показатель | Референсные значения | Результаты | |||
Время взятия материала | |||||
07:37 | 09:48 | 12:40 | 13:52 | ||
Кальций ионизированный, моль/л | 1,08–1,33 | 1,07 | 1,01 | 0,9 | 0,52 |
Калий, ммоль/л | 3,5–5,1 | 3,3 | 4,4 | – | – |
Бикарбонат стандартный, ммоль/л | 22–26 | 17,6 | 10 | 7,1 | 9,6 |
Глюкоза, ммоль/л | 3,9–5,8 | 6,2 | 6,2 | 4,2 | 10 |
Лактат, ммоль/л | 0,7–2,5 | 12,0 | 13,9 | 15 | 15 |
pH | 7,32–7,42 | 7,24 | 7,11 | 6,97 | 7,02 |
pO2, мм. рт. ст | 20–40 | 54 | 16 | 34 | 25 |
sO2, % | 94–98 | 81 | 11 | 32 | 20 |
pCO2, мм рт. ст. | ~ | 45 | 52 | 64 | 70 |
Натрий, ммоль/л | 135–145 | 135 | 134 | 134 | 139 |
Бикарбонат текущий, ммоль/л | 21–28 | 19,3 | 16,5 | 14,7 | 18,1 |
Буферные основания крови, ммоль/л | -2,0–3,0 | 8,9 | 16,2 | 20,6 | 12,9 |
Буферные основания внеклеточной жидкости, ммоль/л | -3–3 | 8,1 | 13 | 17,1 | 12,9 |
Общее содержание углекислого газа, ммоль/л | 27–33 | 20,7 | 18,1 | 16,7 | 20,2 |
Лечение
Пациент получал терапию в соответствии с протоколом лечения сепсиса неясной этиологии и септического шока: искусственная вентиляция лёгких, антибактериальная терапия (меропенем внутривенно по 2 г каждые 8 ч), вазопрессорная поддержка (норэпинефрин в дозе от 1,0 до 10 мкг/мин), глюкокортикостероиды (гидрокортизон в дозе 200 мг внутривенно), инфузионная терапия (сбалансированные полиионные растворы, альбумин 20%), коррекция КОС, коррекция ДВС-синдрома (апротинин в дозе 500 000 КИЕ в/в , свежезамороженная плазма).
Динамика и исходы
Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. На фоне резистентного септического шока и нарастающей полиорганной недостаточности через 7 ч после госпитализации наступил летальный исход. Общая длительность заболевания составила 18 ч.
Клинический диагноз
Основное заболевание (МКБ-10: А39.2): Генерализованная менингококковая инфекция, молниеносное течение.
Осложнения: Септический шок 3-й степени. Дыхательная недостаточность 3-й степени, искусственная вентиляция лёгких. Синдром полиорганной недостаточности (острый респираторный дистресс-синдром, отёк лёгкого, острое почечное повреждение). ДВС-синдром с развитием острого нарушения мозгового кровообращения.
Результаты патологоанатомического исследования
Визуально мягкие мозговые оболочки умеренно полнокровные, тусклые, приподняты большим количеством отёчной жидкости. Поверхность оболочек гладкая, блестящая, серо-синюшного цвета. Твёрдая мозговая оболочка несколько напряжена. В области средних и задней черепных ямок — кровоизлияние тёмно-красного цвета объёмом ~ 30 мл, не связанное с твёрдой мозговой оболочкой. В синусах твёрдой мозговой оболочки присутствует жидкая тёмно-красная кровь.
Желудочки головного мозга расширены и заполнены кровью. Отмечается капиллярно-венозное полнокровие головного мозга, периваскулярное и перинейрональное разрежение мозговой ткани. Нейронофагия. В мозжечке — повышенное количество сосудов, периваскулярные кровоизлияния, очаги кальциноза.
Почки шоковые, с резкой бледностью коры и полнокровием мозгового вещества. При гистологическом исследовании выявили фиброгиалиноз стенок артериол, венозное полнокровие, наличие красных микротромбов, распространённую белковую и гидропическую дистрофию нефротелия до некрозов.
В лёгких отмечается капиллярно-венозное полнокровие, красные микротромбы, десквамация бронхотелия и альвеолоцитов, распространённое скопление серозного содержимого в альвеолах и умеренная эмфизема.
При гистологическом исследовании печени отмечается капиллярно-венозное полнокровие, умеренный портальный фиброз стромы, мелкокапельная жировая и вакуольная дистрофия, а также очаги центролобулярных некрозов и отёк пространства Диссе. Кровоизлияния в надпочечники отсутствуют.
Патологоанатомический диагноз
Основное заболевание: Менингококковая инфекция, генерализованная форма, менингит, менингококцемия. Осложнения основного заболевания: ДВС-синдром, полиорганная недостаточность, отёк лёгких. Сопутствующие заболевания: атрофический гастрит, стеатоз печени, совпадение клинического и патологоанатомического диагнозов.
ОБСУЖДЕНИЕ
Раннюю диагностику ГФМИ проводят на основании характерной клинической картины заболевания. Классические проявления ГФМИ включают менингит и менингококцемию, однако в некоторых случаях заболевание протекает с атипичной клинической симптоматикой, что затрудняет своевременную диагностику [13, 14].
Мы описали случай ГФМИ у пациента 43 лет без отягощённого преморбидного фона. Заболевание протекало в форме фульминантного сепсиса с септическим шоком при отсутствии геморрагической сыпи, менингеальных знаков и кровоизлияний в надпочечники. Летальный исход наступил через 18 ч от начала заболевания. Нетипичным проявлением ГФМИ в данном случае стал гастроинтестинальный синдром с выраженной абдоминальной болью, что потребовало исключения мезентериального ишемического тромбоза и острой хирургической патологии. Согласно литературным данным, ГФМИ может манифестировать с выраженного гастроинтестинального синдрома [15], особенно при развитии септического шока [16]. Чаще всего желудочно-кишечные нарушения возникают при ГФМИ, вызванной менингококком серогруппы W [17].
Менингококковую этиологию сепсиса у данного пациента подтвердили с помощью результатов микробиологического исследования крови. Возбудителем ГФМИ оказался нетипируемый штамм N. meningitidis, который редко вызывает инвазивные инфекции у здоровых людей. В литературе описаны случаи ГФМИ, вызванные нетипируемыми штаммами N. meningitidis у людей с наследственным дефицитом комплемента С5 или получавших ингибитор комплемента экулизумаб [12]. Однако некоторые работы сообщают о случаях ГФМИ, вызванных нетипируемыми штаммами менингококков у иммунокомпетентных пациентов [12, 18].
В рассматриваемом случае клинический и патологоанатомический диагнозы совпали. Менингит диагностировали только по результатам гистологического исследования тканей головного мозга, которое выявило лейкостазы, красные и лейкоцитарные микротромбы, повышенный цитоз мягкой мозговой оболочки, инфильтрацию макрофагами, венозное полнокровие, а также признаки гипертензионного синдрома.
Известно, что у части пациентов с менингитом менингеальные симптомы могут отсутствовать. Согласно данным T. Akaishi и соавт., чувствительность ригидности затылочных мышц составляет 40,5–51,7%, симптома Кернига — 17,9–28,0%, симптома Брудзинского — 21,5–33,4% [19]. Также описаны клинические случаи заболеваний пациентов с менингококковым сепсисом без геморрагической сыпи [20, 21].
Возможно классические признаки генерализованной МИ, а именно сыпь и менингеальные знаки, в рассматриваемом клиническом случае не успели развиться в связи с молниеносным течением заболевания. Летальный исход наступил вследствие рефрактерного септического шока и тяжёлой полиорганной недостаточности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, представленный случай демонстрирует, что ГФМИ может протекать в форме фульминантного сепсиса с септическим шоком без менингеальных знаков и геморрагической сыпи, но с гастроинтестинальным и абдоминальным синдромами. Врачи амбулаторного и госпитального звена должны учитывать возможность развития атипичных клинических проявлений ГФМИ. Раннее микробиологическое обследование является ключевым методом диагностики атипичных форм менингококковой инфекции.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. И.В. Николаева — концепция работы, редактирование текста рукописи; Н.В. Галеева — написание и редактирование текста рукописи; Б.Ш. Фаткуллин — курация пациента, анализ данных истории болезни; А.Р. Шарафутдинова — проведение вскрытия и описание результатов патолого-анатомического исследования; И.Р. Гимадиева — проведение микробиологического исследования; Л.Р. Гайнатуллина — сбор и анализ литературных данных. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Этическая экспертиза. Неприменимо.
Согласие на публикацию. Авторы не получили информированное согласие от пациента и его законных представителей на публикацию сведений о его здоровье в период госпитализации в связи со скоропостижной смертью пациента и отсутствием контактной информации о его родственниках. Все представленные сведения обезличены, фотографии не публикуются.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два члена редакционной коллегии журнала.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: I.V. Nikolaeva: conceptualization, writing—review & editing; N.V. Galeeva: writing—original draft; writing—review & editing; B.Sh. Fatkullin: investigation, formal analysis; A.R. Sharafutdinova: investigation; I.R. Gimadieva: investigation; L.R. Gainatullina: resources. All the authors approved the version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Ethics approval: Not applicable.
Consent for publication: No informed consent was obtained from the patient or his legal representatives for the publication of health information during hospitalization due to the patient’s sudden death and the lack of his relatives’ contacts. All data presented are anonymized, and no photographs are published.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two members of the editorial board.
About the authors
Nelli V. Galeeva
Kazan State Medical University
Author for correspondence.
Email: nelli_04@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5080-6529
SPIN-code: 8921-4689
MD, Cand. Sci. (Medicine), Assistant Professor
Russian Federation, 49 Butlerova st, Kazan, 420012Irina V. Nikolaeva
Kazan State Medical University
Email: irinanicolaeva@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0104-5895
SPIN-code: 4103-5663
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, 49 Butlerova st, Kazan, 420012Bulat Sh. Fatkullin
Professor A.F. Agafonov Republican Clinical Infectious Diseases Hospital
Email: bulat.fatkullin.68@bk.ru
ORCID iD: 0009-0004-3505-2166
SPIN-code: 8772-3423
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, KazanIlyuza R. Gimadieva
Professor A.F. Agafonov Republican Clinical Infectious Diseases Hospital
Email: ilyuza_gimadiyeva@mail.ru
ORCID iD: 0009-0000-3524-9250
SPIN-code: 6757-9412
Russian Federation, Kazan
Liliya R. Gaynatullina
Professor A.F. Agafonov Republican Clinical Infectious Diseases Hospital
Email: g-lilya@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-8124-5880
SPIN-code: 7307-6339
Russian Federation, Kazan
Adelya R. Sharafutdinova
Republican Bureau of Forensic Medical Examination
Email: Adeliasudmed@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2637-9982
SPIN-code: 5067-7210
Russian Federation, Kazan
References
- State report «On the state of sanitary and epidemiological welfare of the population in the Russian Federation in 2021. Moscow; 2022. (In Russ.) Available from: https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=21796
- Kutishcheva IA, Martynova GP. Meningococcal infection in the Krasnoyarsk territory. Journal Infectology. 2020;12(1 1S):19–20. doi: 10.22625/2072-6732-2020-12-1S EDN: NAXPCM
- Solovey NV, Karpov IA. Meningococcemia: first hour after diagnosis. Strategy of patient’s management. Clinical infectology and parasitology. 2012;1(1):71-78. (In Russ.) EDN: PYNHWD
- Taha S, Deghmane AE, Taha MK. Recent increase in atypical presentations of invasive meningococcal disease in France. BMC Infect. Dis. 2024;24(1):640. doi: 10.1186/s12879-024-09547-y EDN: RBQKLS
- Bethea J, Makki S, Gray S, et al. Clinical characteristics and public health management of invasive meningococcal group W disease in the East Midlands region of England, United Kingdom, 2011 to 2013. Eurosurveillance. 2016;21(24). doi: 10.2807/1560-7917.es.2016.21.24.30259
- Bertrand-Gerentes I, Fanchon L, Coste F, et al. Range of clinical manifestations caused by invasive meningococcal disease due to serogroup W: a systematic review. Infect. Dis. Ther. 2023;12(10):2337–2351. doi: 10.1007/s40121-023-00869-z EDN: DYCYGR
- Zinserling VA, Sukhanova YuV, Gusev DA. Unusual course of meningococcal infection with lethal outcome (brief communication). Journal Infectology. 2023;15(2):165-166. doi: 10.22625/2072-6732-2023-15-2-165-166 EDN: JFLQHR
- Aung M, Raith E, Williams E, Burrell AJ. Severe meningococcal serogroup W sepsis presenting as myocarditis: A case report and review of literature. J. Intensive Care Soc. 2019;20(2):182–186. doi: 10.1177/1751143718794127 EDN: DTNIZE
- Russcher A, Fanoy E, van Olden GDJ, et. al. Necrotising fasciitis as atypical presentation of infection with emerging Neisseria meningitidis serogroup W (MenW) clonal complex 11, the Netherlands, March 17. Eurosurveillance. 2017;22(23):30549. doi: 10.2807/1560-7917.es.2017.22.23.30549
- Mustapha MM, Marsh JW, Harrison LH. Global epidemiology of capsular group W meningococcal disease (1970–2015): Multifocal emergence and persistence of hypervirulent sequence type (ST)-11 clonal complex. Vaccine. 2016;34(13):1515–1523. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.02.014
- Edmond K, Clark A, Korczak VS, et. al. Global and regional risk of disabling sequelae from bacterial meningitis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect. Dis. 2010;10(5):317-328. doi: 10.1016/S1473-3099(10)70048-7
- Nadel S, Ninis N. Invasive meningococcal disease in the vaccine era. Front. Pediatr. 2018;6:321. doi: 10.3389/fped.2018.00321 EDN: SPPRUC
- Ganesh K, Allam M, Wolter N, et.al. Molecular characterization of invasive capsule null Neisseria meningitidis in South Africa. BMC Microbiol. 2017;17(1):40. doi: 10.1186/s12866-017-0942-5 EDN: HSHYQA
- Stinson C, Burman C, Presa J, Abalos M. Atypical presentation of invasive meningococcal disease caused by serogroup W meningococci. Epidemiol. Infect. 2020;148:e12. doi: 10.1017/S0950268819002152 EDN: OBFQAR
- Skripchenko NV, Karev VE, Markova KV, et al. Clinical cases of meningococcal infection caused by Neisseria meningitidis serogroup W. Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics). 2019;64(5):114-122. doi: 10.21508/1027-4065-2019-64-5-114-122 EDN: VYDPDB
- Dmitrieva TG, Kozhukhova ZhV, Suzdalova VP, et al. Atypical course of generalized form of meningococcal infection serotype W in young children. Vestnik of North-Eastern Federal University. Medical Sciences. 2024;37(4):26-34. doi: 10.25587/2587-5590-2024-4-26-34 EDN: FEMFLW
- Lobzin YuV, Ivanova MV, Skripchenko NV, et al. Clinical and epidemiological pecularities of the general meningococcal infection and new opportunities of therapy. Infectious Diseases: News, Opinions, Training. 2018;7(1):69-77. doi: 10.24411/2305-3496-2018-00009 EDN: YSHTLE
- Campbell H, Parikh SR, Borrow R, et.al. Presentation with gastrointestinal symptoms and high case fatality associated with group W meningococcal disease (MenW) in teenagers. Eurosurveillance. 2016;21(12):1-6. doi: 10.2807/1560-7917.es.2016.21.12.30175
- Kurose S, Onozawa K, Yoshikawa H. et al. Invasive meningococcal disease due to a non-capsulated Neisseria meningitidis strain in a patient with IgG4-related disease. BMC Infect. Dis. 2018;18(1):146. doi: 10.1186/s12879-018-3064-2 EDN: FRMYMG
- Akaishi T, Kobayashi J, Abe M, et.al. Sensitivity and specificity of meningeal signs in patients with meningitis. J. Gen. Fam. Med. 2019;20(5):193-198. doi: 10.1002/jgf2.268
- John SM, Koelmeyer TD. Meningococcal disease and meningitis: a review of deaths proceeding to coroner directed autopsy in Auckland. N. Z. Med. J. 1999;112(1086):134-136.
- Izzo I, Pileri P, Merello M, Gnesin P, et al. Atypical clinical presentation of meningococcal meningitis: a case report. Infez. Med. 2016;24(3):234–236.
Supplementary files