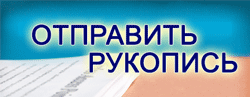Случай внекишечного амёбиаза с развитием множественных абсцессов печени: путь к диагнозу
- Авторы: Бургасова О.А.1, Лебедев С.С.2,3, Климова Ю.А.1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Городская клиническая больница имени С.П. Боткина
- Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования
- Выпуск: Том 29, № 4 (2024)
- Страницы: 309-316
- Раздел: Клинические случаи
- Статья получена: 17.09.2023
- Статья одобрена: 24.07.2024
- Статья опубликована: 10.09.2024
- URL: https://rjeid.com/1560-9529/article/view/582012
- DOI: https://doi.org/10.17816/EID582012
- ID: 582012
Цитировать
Аннотация
Амёбиаз — протозойное заболевание, актуально для стран с жарким климатом, встречается в средней полосе России нечасто и, как правило, диагностируется у путешественников, людей с иммунодефицитом, а также у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Основное проявление болезни — поражение кишечника с развитием диареи. При гематогенном распространении возбудителя могут формироваться внекишечные поражения органов с образованием в них абсцессов. Наиболее часто в воспалительный процесс оказываются вовлечены печень, лёгкие, головной мозг, кожа. В настоящей публикации представлен клинический случай внекишечного амёбиаза с развитием множественных абсцессов печени, представивший затруднения в диагностике. В статье проведён анализ клинических и лабораторных данных в динамике заболевания, дана оценка специфичных для амёбиаза симптомов, а также представлены результаты ключевых диагностических методов исследования, включая визуализационные. Появление завозной инфекции на территории Московского региона свидетельствует об актуализации этой нозологической формы, значимости проведения дифференциальной диагностики с заболеваниями инфекционной и неинфекционной природы, своевременной верификации этиологии и таргетной антибактериальной терапии. Целью статьи является привлечение внимания врачей к проблеме диагностики и профилактики завозных инфекций, в частности амёбиаза, который встречается в средней полосе России как результат миграции и активного туризма в эндемичные районы.
Ключевые слова
Полный текст
АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время амёбиаз занимает одно из ведущих мест среди инфекционных заболеваний паразитарной природы в Азии, Европе и Америке. В развитых странах амёбиаз поражает главным образом мигрантов, путешественников, иммунокомпроментированных лиц и, все чаще, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. В России эта инфекция встречается в основном спорадически на юге страны, эндемичным очагом считается Дагестан, где высок уровень внекишечных форм. Заболеваемость амёбиазом значительна и в приграничных с Россией государствах: Армении, Грузии, Туркменистане и Кыргызстане [1–3]. Динамичное развитие туризма в направлении стран Азии делает эту инфекцию актуальной и для мегаполисов Российской Федерации, таких как Москва и Санкт-Петербург, знание о данной патологии необходимо врачам различных специальностей.
Амёбная дизентерия — протозойный антропоноз с фекально-оральным механизмом передачи, вызываемый Entamoeba histolytica и проявляющийся преимущественно язвенным поражением толстой кишки, а также развитием инвазивного процесса с формированием абсцессов в печени, лёгких, головном мозге и других органах. Внекишечный амёбиаз составляет около 10% всех случаев амёбиаза [4]. Наиболее часто внекишечный амёбиаз, особенно амёбные абсцессы печени, встречается у мужчин 40–50 лет [5]. Развитие заболевания иногда регистрируется и у лиц, никогда не выезжавших в эндемичные районы, из-за возможности заражения при орально-анальных сексуальных контактах [6]. Инкубационный период внекишечного амёбиаза составляет от 8 до 20 недель [7], однако встречаются и более длительные периоды — до десятилетия [8]. Будучи редкой патологией для неэндемичных областей, внекишечный амёбиаз представляет особенную сложность в диагностике [4, 9, 10]. Основой для неё служит лабораторная диагностика, включая серологические тесты: у большинства пациентов находят высокие титры специфических антител к дизентерийной амёбе. К сожалению, ценность этого исследования снижается на эндемичных территориях, так как по его результатам не представляется возможным различить острое и предшествующее заболевание. Паразита в кишечном содержимом чаще всего не обнаруживают [11]. В пункционном материале абсцессов трофозоиты паразита выявляются лишь в 20% случаев, в основном по его периферии [12]. Высокой точностью обладает исследование аспирата молекулярно-биологическим методом с помощью полимеразно-цепной реакции (ПЦР) [13].
ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ
Пациент П., 50 лет, поступил в больницу на 6-й день болезни по направлению участкового терапевта с жалобами на лихорадку с ознобом до 40,0 ℃, резкую слабость, обильное потоотделение, редкий непродуктивный кашель. С момента заболевания получал лечение препаратами «Кагоцел», тилорон, парацетамол+фенилэфрин+[аскорбиновая кислота], а также за сутки до госпитализации был начат приём амоксициллина в комбинации с клавулановой кислотой, муколитиками без эффекта. В связи с выраженностью жалоб несколько раз вызывал скорую медицинскую помощь, врачи которой диагностировали острое респираторное заболевание.
Эпидемиологический анамнез. В декабре, за 4 недели до заболевания, пациент находился в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Отмечал в течение 4 дней появление кишечных симптомов, сопровождавшихся ознобом: снижение аппетита и разжиженный стул до 5 раз в сут. К врачу не обращался, симптомы купировались самостоятельно. Вернувшись в Москву, в конце декабря поехал в Мордовию, где находился у родственников в частном доме.
Контакты с инфекционными больными отрицал, парентеральный анамнез отсутствует. Из сопутствующих заболеваний: артериальная гипертензия и хронический гастрит.
Результаты физикального, лабораторного и инструментального исследования
При поступлении в стационар состояние пациента было расценено как среднетяжёлое. Основными жалобами были озноб, головная боль, повышение температуры. При осмотре: температура тела повышена до 38,0 ℃, кожные покровы чистые, слегка влажные, высыпаний не отмечалось. Слизистая ротоглотки слегка гиперемирована, энантема отсутствует. Шейные и другие лимфоузлы не изменены, мелкие, подвижные. В нижних отделах лёгких с обеих сторон, преимущественно слева, выслушивались влажные мелкопузырчатые хрипы, притупление перкуторного звука. Слева дыхание ослаблено. Частота дыхательных движений составляла 24 в мин. Тоны сердца были ясные, ритмичные. Частота сердечных сокращений — 120 в мин, артериальное давление — 110/70 мм рт. ст. Язык был обложен белым налётом. Живот слегка вздут, при пальпации — чувствительный в правом подреберье. Печень выступала из-под рёберной дуги на 2 см, край печени — мягкий, чувствительный при пальпации. Перитонеальных явлений нет. Селезёнка не пальпировалась. Диурез — в норме. Стул — без патологических примесей, с тенденцией к запорам. Менингеальных и очаговых знаков нет.
Заключение: острая респираторная вирусная инфекция, грипп? Левосторонняя пневмония.
Пациент был обследован: кровь на малярию — плазмодии не найдены; кровь на ВИЧ, сифилис, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, лептоспироз, легионеллёз — отрицательно; реакция пассивной гемагглютинации с сыпнотифозным, брюшнотифозным диагностикумами — отрицательно; посев мочи и крови на стерильность — отрицательно; кровь на гепатиты А, В, С, D, Е — отрицательно. Проведено исследование мазка из ротоглотки методом ПЦР на цитомегаловирус и вирус Эпштейна–Барр, вирус герпеса человека 6-го типа — не обнаружены. В исследовании крови были выявлены антитела класса IgG к Chlamydia pneumoniae. Антитела класса IgM к Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae выявлены не были. Было проведено исследование кала на яйца гельминтов и/или цисты патогенных простейших — отрицательно. Данные лабораторных исследований приведены в табл. 1–3.
Таблица 1. Динамика показателей клинического анализа крови
Table 1. Dynamic change of complete blood count parameters
Показатель | День болезни | |||||
6-й | 11-й | 13-й | 15-й | 17-й | 19-й | |
Гемоглобин, г/л | 134 | 117 | 102 | 108 | 108 | 102 |
Эритроциты, ×1012/л | 4,22 | 3,72 | 3,19 | 3,39 | 3,52 | 3,22 |
Тромбоциты, ×109/л | 235 | 272 | 158 | 157 | 183 | 225 |
Лейкоциты, ×109/л | 21,1 | 17,5 | 21,3 | 24,7 | 17,9 | 13,6 |
Палочкоядерные нейтрофилы, ×109/л | 1,48 | 14,98 | 3,41 | 5,93 | 1,61 | 0,54 |
Сегментоядерные нейтрофилы, ×109/л | 15,82 | 14,68 | 13,2 | 14,32 | 10,88 | |
Эозинофилы, ×109/л | 0,42 | 0,18 | 0,21 | 0,49 | – | 0,82 |
Базофилы, ×109/л | – | 0,96 | – | – | – | – |
Лимфоциты, ×109/л | 1,9 | 0,67 | 1,07 | 0,03 | 1,79 | 0,54 |
Моноциты, ×109/л | 1,48 | 0,72 | 1,07 | 1,2 | 0,36 | 0,82 |
Скорость оседания эритроцитов, мм/ч | 18 | – | – | – | – | – |
Юные, ×109/л | – | – | Юные — 0,64 | Юные-1 — 0,25 | – | – |
Таблица 2. Динамика биохимических показателей крови
Table 2. Dinamic change of biochemical blood parameters
Показатель | Норма | День болезни | |||||
6-й | 11-й | 13-й | 15-й | 17-й | 19-й | ||
Общий белок, г/л | 64–83 | 59,8 | 52,6 | 44,3 | 52,4 | 54,8 | 54,4 |
Общий билирубин, мкмоль/л | 3–17 | 13,7 | 9,0 | 13,3 | 9,4 | 10,9 | 12,1 |
Прямой билирубин, мкмоль/л | 0–3,4 | – | 6,3 | 7,6 | 2,0 | – | – |
Аланинаминотрансфераза, Ед/л | 3–41 | 50,0 | 114,3 | 83,7 | 75,5 | 124,4 | 71,7 |
Аспартатаминотрансфераза, Ед/л | 2–37 | 63,0 | 219,9 | 125,0 | 103,2 | 186,7 | 80,0 |
Щелочная фосфатаза, Ед/л | 1–115 | 116,9 | 158,0 | 147,4 | 180,1 | 163,7 | 118,9 |
Гамма-глутамилтранспептидаза, Ед/л | 9–50 | 58,0 | 67,8 | 69,1 | 122,5 | 141,7 | – |
Глюкоза, ммоль/л | 3,9–5,8 | 6,3 | 5,6 | 6,1 | 4,8 | – | 4,6 |
Мочевина, ммоль/л | 2,5–8,5 | 14,3 | 27,0 | 23,4 | 15,0 | 10,0 | 9,9 |
Креатинин, мкмоль/л | 53–115 | 163,0 | 242,0 | 189,8 | 111,0 | 70,7 | 83,8 |
Амилаза, Ед/л | 28–100 | 25,1 | 16,0 | 19,9 | 36,1 | 68,6 | 76,1 |
Прокальцитонин, нг/мл | Менее 0,5 | – | – | – | 8,6 | 5,5 | Менее 0,5 |
Таблица 3. Динамика показателей коагулограммы
Table 3. Dynamics of coagulation parameters
Показатель | Дни болезни | ||||
11-й | 13-й | 15-й | 17-й | 19-й | |
Активированное частичное тромбопластиновое время, с | 27,6 | 27,0 | 32,2 | 30,3 | 35,3 |
Протромбиновый индекс, % | 41,4 | 42,0 | 44,4 | 51,2 | – |
Фибриноген, г/л | 17,9 | 5,6 | 17,0 | 4,4 | – |
Тромбиновое время, с | – | – | 9,5 | 15,6 | – |
Международное нормализованное отношение | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | – |
D-димер, нг/мл | – | – | – | – | 4397,0 |
В проведённой рентгенограмме органов грудной клетки при поступлении была выявлена нижнедолевая пневмония слева, дисковидный ателектаз. Начата терапия цефалоспорином третьего поколения. На фоне лечения отмечалось незначительное снижение температуры, улучшение самочувствия, однако на четвертые сутки терапии пациент стал жаловаться на дискомфорт и вздутие в животе, отсутствие стула. Была проведена очистительная клизма, назначены слабительные средства, однако самостоятельный стул так и не появился, перестали отходить газы.
В течение следующих 9 суток, несмотря на проводимое лечение, состояние пациента прогрессивно ухудшалось, возобновилась фебрильная лихорадка, появились аускультативные изменения в нижней доле правого лёгкого (притупление перкуторного звука и ослабление дыхания), нарастала дыхательная недостаточность, интоксикация, нестабильность гемодинамики. У пациента отмечались проявления печёночно-клеточной недостаточности с нарушением белково-синтетической функции печени (снижение общего белка до 44,3 г/л и протромбинового индекса до 41,4%). Уровень фибриногена варьировал, что можно было связывать с медикаментозной (введение глюкокортикостероидов) и инфузионной терапией. Были снижены уровни международного нормализованного отношения, холестерина, отмечался умеренно выраженный цитолиз (аланинаминотрансфераза — от 50 до 114,3 Ед/л, аспартатаминотрансфераза — от 63,0 до 219,9 Ед/л), синдром желтухи отсутствовал (см. табл. 2). В клиническом анализе крови отмечался выраженный лейкоцитоз, анэозинофилия, однако в нём определялась относительная и абсолютная базофилия как свидетельство выраженного воспалительного процесса. В контрольной рентгенограмме органов грудной клетки было выявлено высокое стояние куполов диафрагмы, выпот в плевральной полости слева, мелкофокусная двусторонняя пневмония, дисковидный ателектаз в базальных отделах нижней доли правого лёгкого. В этот же день, на 11-й день болезни, проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости, которое на фоне выраженного метеоризма обнаружило увеличение и диффузные изменения в паренхиме печени и увеличение селезёнки. Абсцессы печени выявлены не были. На эхокардиографии — выпот в полость перикарда. В связи с нарастанием симптомов дыхательной недостаточности (сатурация кислорода при переводе без кислородной поддержки составляла 80%), спутанностью сознания, дезориентацией в пространстве и времени на 15-й день болезни пациент был переведён в отделение реанимации с последующей искусственной вентиляцией лёгких.
В динамике заболевания в отделении реанимации: искусственная вентиляция лёгких в течение 3 сут, в дальнейшем переведён на самостоятельное дыхание. При объективном осмотре состояние тяжёлое. Сохранялась фебрильная лихорадка. Контактен. Ориентирован. Кожные покровы чистые, без высыпаний. В лёгких дыхание резко ослаблено преимущественно справа. Тоны сердца приглушены, шумов нет. Артериальное давление — 100/70 мм рт. ст. Частота сердечных сокращений — 88 в мин. Живот увеличен в объёме за счёт выраженного метеоризма. Отмечалось некоторое притупление перкуторного звука в латеральных отделах. Печень выступала из-под ребра на 4 см. Пальпировался край селезёнки. Самостоятельный стул отсутствовал. Дизурических явлений не было. Менингеальных и очаговых знаков не отмечалось.
На 19-й день от начала болезни в связи с отсутствием эффекта от терапии, в том числе от антибактериальной (левофлоксацин, ванкомицин, меропенем) и введения иммуноглобулина человеческого, и ухудшением состояния больного была проведена компьютерная томография органов грудной клетки и брюшной полости без введения контраста. В лёгочной ткани с обеих сторон отмечались затемнения по типу «матового стекла», справа — частичные ателектазы в нижней и средних долях. В увеличенной печени были обнаружены абсцессы в S6 размерами 50×72×70 мм. В S5 — аналогичное образование размерами 61×47×65 мм, был выявлен выпот в малом тазу до 47 мм и в сальниковой сумке размерами 179×69 мм (рис. 1, 2).
Был сформулирован предварительный диагноз: внебольничная пневмония. Септицемия с формированием абсцессов печени. Правосторонний плеврит. Ателектаз правого лёгкого. Печёночно-клеточная недостаточность. Дыхательная недостаточность.
Рис. 1. Компьютерная томография органов брюшной полости.
Fig. 1. Computed tomography of the abdominal cavity.
Рис. 2. Компьютерная томография органов грудной клетки.
Fig. 2. Computed tomography of the chest.
Однако данные эпидемиологического анамнеза, данные анамнеза о перенесённой кишечной инфекции за месяц до данного заболевания позволили заподозрить амёбиаз. Начата терапия метронидазолом ex juvantibus. По результатам дообследования было выполнено чрескожное чреспечёночное дренирование абсцессов печени под ультразвуковым наведением дренажами 10 Fr «pig tale». По дренажам отмечено сукровичное отделяемое, взят посев, роста в нём получено не было. При микроскопии отделяемого были обнаружены разрушенные нейтрофилы. Исследование крови на амёбиаз методом непрямой иммунофлюоресценции в динамике выявляло нарастание титров специфических антител к E. histolytica: 1/80 (19-й день болезни) и 1/160 (34-й день болезни). Диагностика проводилась в Институте медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского в связи с отсутствием иммуноферментного анализа в практическом доступе.
На 24-й день болезни была проведена контрольная мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости и грудной клетки. По результатам исследования: печень в размерах не увеличена, паренхима обычной плотности. В S6 определялось гиподенсивное образование с включениями газа, с капсулой, слабо накапливающей контрастное вещество, размерами 51×70×75 мм. В S5 — аналогичное образование размерами 59×46×62 мм. Внутрипечёночные желчные протоки и сосуды расширены не были. Капсула не является характерной для амёбного абсцесса, однако информация о подобных образованиях встречается в литературе [14].
Правое лёгкое находилось в состоянии компрессионного ателектаза. В S2/3 справа отмечались участки уплотнения по типу «матового стекла» с наличием более плотных линейных элементов, со спайками с костальной плеврой. В S5 прослеживался участок линейного фиброза. Плевральный выпот справа — с тенденцией к осумкованию. В нижней доле правого лёгкого визуализировались компрессионные изменения, на фоне которых нельзя было исключить воспалительную инфильтрацию.
Исход и результаты последующего наблюдения
Спустя 2,5 мес. от начала заболевания была проведена контрольная мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости и лёгких. В брюшной полости при сравнении с предыдущими исследованиями была обнаружена положительная динамика в виде уменьшения размеров абсцессов, исчезновения газа из образований печени. В органах грудной клетки также выявлены улучшения в виде обратного развития двусторонней пневмонии, уменьшения размеров очагов и закрытия полостей деструкции, уменьшения объёма правостороннего гидроторакса. Отмечался плевропневмофиброз обоих лёгких.
ОБСУЖДЕНИЕ
Данный клинический случай является ярким примером постановки трудного диагноза. Как и при любой редкой инфекционной патологии, особенно важными и, часто, определяющими успех диагностики являются данные эпидемиологического анамнеза, который позволяет заподозрить амёбиаз и своевременно провести дообследования: исследование фекалий (трёхкратно) или других биологических субстратов на предмет определения кристаллов Шарко–Лейдена, что может сигнализировать о паразитозе, а также копрологическое и микроскопическое исследование с целью выявления вегетативных форм энтамёбы. В качестве дополнительной серологической диагностики необходимо определение уровня специфических антител к дизентерийной амёбе, определение антител класса IgG методом иммуноферментного анализа. Может быть проведено исследование фекалий или других биологических субстратов на предмет выявления ДНК дизентерийной амёбы, в том числе с помощью моноклональных антител [1, 3, 13, 15].
Профилактика амёбной дизентерии и её осложнений включает просветительскую деятельность с лицами, отъезжающими в эндемичные районы субтропических и тропических стран. Важно соблюдение санитарно-гигиенических мер при употреблении воды и блюд с её использованием. Обработку овощей проводят мыльным раствором, уксусом в течение 15 мин. Особое значение имеют профилактические осмотры декретированных групп населения (работников предприятий общественного питания, частных хозяйств, работников кухни в ресторанах, отелях и т.д.).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диагностика внекишечного амёбиаза в клинической практике представляет сложности в связи малой встречаемостью, что увеличивает сроки установления диагноза и делает поиск затратным. В связи с этим на первое место выходит информированность врачей в отношении этой патологии, особенно в неэндемичных регионах [9, 10]. Определяющими в постановке диагноза являются клинико-эпидемиологические данные и лабораторно-инструментальные методы.
Дифференциальную диагностику амёбиаза следует проводить с гельминтозами и бактериальными поражениями желудочно-кишечного тракта (кишечным шистосомозом, трихоцефалёзом, шигеллёзом, кампилобактериозом, эшерихиозом, иерсиниозом, эхинококкозом), новообразованиями толстой кишки, язвенным колитом, болезнью Крона, псевдомембранозным колитом [10]. В отличие от пиогенных абсцессов печени, при амёбных абсцессах группу риска составляют мужчины среднего возраста, посетившие эндемичные очаги, а при лабораторном исследовании не отмечается повышения уровня билирубина и сдвига «влево» в лейкоцитарной формуле.
В комплексной терапии внекишечного амёбиаза наряду с аспирацией содержимого абсцессов показано использование метронидазола. В дополнение к тканевому препарату следует применять препарат для эрадикации паразита в кишечнике (действующий на просветные формы), даже при отсутствии выявления их в кишечном содержимом [16].
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении работы.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение работы и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределён следующим образом: О.А. Бургасова — анализ литературных источников, научное редактирование рукописи; С.С. Лебедев — рассмотрение и одобрение окончательного варианта рукописи; Ю.А. Климова — написание текста рукописи, сбор и анализ литертурных данных.
Информированное согласие на публикацию. Авторы получили письменное согласие пациента на публикацию медицинских данных и фотографий в обезличенной форме в журнале «Эпидемиология и инфекционные болезни».
ADDITIONAL INFORMATION
Funding source. This article was not supported by any external sources of funding.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Authors’ contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work. O.A. Burgasova — literary data analysis, scientific editing of the manuscript; S.S. Lebedev — review and approval of the final version of the manuscript; Iu.A. Klimova — writing the manuscript, collecting literary data, literary data analysis.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patient for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript in Epidemiology and Infectious Diseases Journal.
Об авторах
Ольга Александровна Бургасова
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
Email: oburgasova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5486-0837
SPIN-код: 5103-0451
доктор медицинских наук, профессор
Россия, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8Сергей Сергеевич Лебедев
Городская клиническая больница имени С.П. Боткина; Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования
Email: lebedevssd@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5366-1281
SPIN-код: 2736-0683
кандидат медицинских наук, доцент
Россия, 125284, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5; 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1Юлия Александровна Климова
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
Автор, ответственный за переписку.
Email: yua_klimova@rudn.ru
ORCID iD: 0000-0001-8936-721X
SPIN-код: 8821-5492
кандидат медицинских наук
Россия, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8Список литературы
- Клинические рекомендации (протокол лечения) оказания медицинской помощи детям больным амёбиазом. 2013. 66 с. Режим доступа: http://niidi.ru/dotAsset/144a99cc-dcc1-443a-a862-d217a596d684.pdf
- Токмалаев А.К., Кожевникова Г.М. Клиническая паразитология: протозоозы и гельминтозы: учебное пособие. Москва: МИА, 2010. 432 с.
- Shirley D.T., Farr L., Watanabe K., Moonah S. A Review of the Global Burden, New Diagnostics, and Current Therapeutics for Amebiasis // Open Forum Infect Dis. 2018. Vol. 5, N 7. P. ofy161. doi: 10.1093/ofid/ofy161
- Глуткина Н.В., Кулага Е.Я., Зинчук В.В. Амёбиаз: особенности диагностики при различных формах поражения (клинический случай) // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2022, Т. 21, № 3. С. 115–123. doi: 10.37903/vsgma.2022.1.14
- Salles J.M., Salles M.J., Moraes L.A., Silva M.C. Invasive amebiasis: an update on diagnosis and management // Expert Rev Anti Infect Ther. 2007. Vol. 5, N 5. P. 893–901. doi: 10.1586/14787210.5.5.893
- Billet A.C., Salmon Rousseau A., Piroth L., Martins C. An underestimated sexually transmitted infection: amoebiasis // BMJ Case Rep. 2019. Vol. 12, N 5. P. e228942. doi: 10.1136/bcr-2018-228942
- Knobloch J., Mannweiler E. Development and persistence of antibodies to Entamoeba histolytica in patients with amebic liver abscess. Analysis of 216 cases // Am J Trop Med Hyg. 1983. Vol. 32, N 4. P. 727–732. doi: 10.4269/ajtmh.1983.32.727
- Dhariwal A., Youngs J., San Francisco A., Bicanic T. Late presentation of amoebic liver abscess // Lancet Infect Dis. 2020. Vol. 20, N 2. P. 259. doi: 10.1016/S1473-3099(19)30555-9 Erratum in: Lancet Infect Dis. 2020. Vol. 20, N 4. P. e50. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30127-4
- Ахмедова Э.Ф., Галявин А.В., Зотов А.В. Клиническое наблюдение трудного установления диагноза «амёбиаз» в неэндемичном регионе // Альманах клинической медицины. 2022. Т. 50, № 6. С. 408–413. doi: 10.18786/2072-0505-2022-50-026
- Юрченко И.Н., Дьячков В.А., Фатенков О.В., и др. Клинический случай амёбного язвенного колита // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 6. doi: 10.17513/spno.30376
- Pritt B.S., Clark C.G. Amebiasis // Mayo Clin Proc. 2008. Vol. 83, N 10. P. 1154–1160. doi: 10.4065/83.10.1154
- Salata R.A., Ravdin J.I. The interaction of human neutrophils and Entamoeba histolytica increases cytopathogenicity for liver cell monolayers // J Infect Dis. 1986. Vol. 154, N 1. P. 19–26. doi: 10.1093/infdis/154.1.19
- Saidin S., Othman N., Noordin R. Update on laboratory diagnosis of amoebiasis // Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019. Vol. 38, N 1. P. 15–38. doi: 10.1007/s10096-018-3379-3
- Казымов Б.И., Свищева П.О., Ольховская М.В., и др. Амёбный абсцесс печени: описание клинического случая // Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врач и Здоровье. 2023. Т. 13, № 4. С. 109–112. doi: 10.20340/vmi-rvz.2023.4.CASE.1
- Иванова М.А., Карпов И.А. Амебиаз: учебно-методическое пособие. Минск: БГМУ, 2005. 19 с.
- Ghosh J.K., Goyal S.K., Behera M.K., et al. Efficacy of aspiration in amebic liver abscess // Trop Gastroenterol. 2015. Vol. 36, N 4. P. 251–255. doi: 10.7869/tg.299